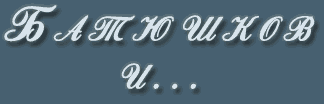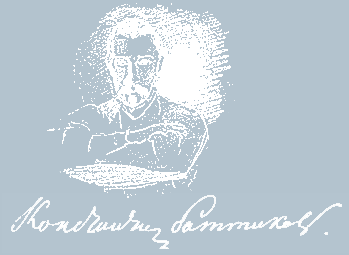
Титульный
лист |
Россина Н. В. Элегия К. Н. Батюшкова и А. С. Пушкина. Эволюция романтической элегии
|
||||||||
|
Делая пометы на полях второй части «Опытов» Батюшкова, Пушкин испытывает живейший интерес к тому, о чем он так неблагосклонно или, напротив, восторженно отзывается: «Прелесть», «Дурно» и т. д. Что, кроме этих отзывов, может он противопоставить элегиям Батюшкова? Конечно же, собственное творчество в этом жанре. Так, по мнению исследователей, появляется элегия «Андрей Шенье» – противопоставление не удовлетворившей Пушкина исторической элегии Батюшкова «Умирающий Тасс» [1] [См.: Сандомирская В. Б. «Андрей Шенье». – В кн.: Стихотворения А. С. Пушкина 1820–1830-х годов. – Л., 1974; Горохова Р. М. Пушкин и элегия К. Н. Батюшкова «Умирающий Тасс». – Временник Пушкинской комиссии, 1976. – Л., 1979, с. 33.]. Оба стихотворения отражают «двойную» поэтическую биографию: героя элегии и самого автора. Несомненно, в 1817 году Батюшков размышляет о своем печальном будущем, и несчастная судьба Тассо, ставшая символом романтического поэта-безумца, для автора элегии полна глубоко личного и трагического смысла. Традиционная элегия не предполагает выхода из состояния уныния, а напротив, закрепляет это состояние как жанровую доминанту. Это еще более подчеркивается кольцевой композицией стихотворения Батюшкова. В 1825 году Пушкин напишет литературную эпиграмму «Соловей и кукушка», направленную против эпигонов Батюшкова и Жуковского и их утомительных элегических «ку-ку». Но в его собственную элегию «Андрей Шенье» 1825 г. эти «ку-ку» все же попадут: «Куда, куда завлек меня враждебный гений?» [2] [Пушкин А. С. Полн. собр. соч.– М.– Л., 1948. Т. III, ч. 1, с. 397 (далее ссылки на это издание даются в тексте статьи с указанием тома и страницы).] (ср.: «Куда, куда вы удалились, // Весны моей златые дни?»). Из содержания эпиграммы ясно, что Пушкин не выступает против элегии вообще, а ратует за разнообразие в пределах ее жанровых границ. Пушкинский Шенье также изображен перед лицом бессмысленной и безвременной гибели. Но элегия Пушкина насыщена одическими и сатирическими мотивами, которые избавляют ее от однообразия и выводят из состояния уныния, хотя стихотворение и завершается традиционным: «Плачь, муза, плачь!..» Проигрывая в целостности, элегия выигрывает в том самом разнообразии, о котором вскоре напишет Пушкин в своей эпиграмме. Почему же именно элегия Батюшкова явилась для Пушкина тем образцом, с которым он сопоставлял свое элегическое творчество? Ответ на этот вопрос затрагивает две сферы: поэтическую и жизненную. Биографические факты общеизвестны, обратимся к поэтической близости обоих художников. Прежде всего, необычайно сходство этих поэтов в их отношении к звучанию стиха. Для Пушкина, как и для его старшего современника, «стройность созвучий», звукопись чрезвычайно характерна. «Поток стихов», «журчание речи» для обоих поэтов не столько дань общеромантической символике, сколько отражение собственного поэтического опыта. И хотя Пушкину чуждо стремление Батюшкова избавить русский стих от «неблагозвучных» «щ» и «ы» и максимально приблизить к итальянскому произношению, но тем не менее, он искренне восхищается в ставших хрестоматийными строках: «звуки итальянские! Что за чудотворец этот Батюшков» (XII, 267). Действительно, фонетический анализ элегий Батюшкова убеждает в том, что их звуковой строй основан на монотонном варьировании сонорных звуков, звукосочетаний, характерных для романских языков (или, вернее, создающих для русского уха иллюзию близости к итальянской речи). Монотонность в данном случае не оценочный термин, на самом деле преобладание одного звукового тона делает стих Батюшкова необыкновенно светлым, легким, пластичным.
Порой очаровавшее Батюшкова созвучие греческого, латинского или итальянского имени задает звуковой тон всему стихотворению, становясь его музыкальной темой. Так, в элегии «Умирающий Тасс» два основных слова – Торквато и Капитолий – организуют звуковой рисунок всего стихотворения. В исторической элегии Пушкина единого звукового строя мы не найдем: стремясь к разнообразию, поэт включил в стихотворение нескольких жанровых форм. Здесь и гневный сатирический монолог, и горестные ламентации, и торжественность одической речи, и собственно элегическая лексика. Если мы обратимся к другим элегиям Пушкина середины 20–30-х годов, то обнаружим не единство фонетической мелодии, как в элегиях Батюшкова, а вполне осознанную контрастность. Там, где у Батюшкова лейтмотив, у Пушкина – многочастность. Все это, с одной стороны, напоминает подсознательный спор пушкинской поэтики с иной, постоянно ощущаемой как близкий образец, а с другой стороны, указывает на происходящие с жанром существенные изменения, ведущие к новой жизни жанра элегии и к разрушению одной из наиболее существенных его особенностей – внутренней цельности, законченной непререкаемой позиции. Если в 1825 году проблема элегического жанра однозначно решалась Пушкиным как требование разнообразия, то уже через пять лет отношение поэта к романтической элегии значительно усложнилось. Главной вехой на этом пути стало создание романа в стихах. «Евгений Онегин» не только включил в себя элегию наряду с другими жанрами лирической поэзии XIX века, но и, сделав ее формой поведения героев, позволил со стороны взглянуть на то, насколько губительно для личности воплощение в реальной жизни элегического жанра. Гибель Ленского, его ранняя могила, описанная в духе элегического творчества Батюшкова и Жуковского, казалось бы, поставила логическую точку в истории жанра. Но те же страницы романа служат толчком к новому изменению элегии. А количество элегических тем в творчестве Пушкина, пожалуй, не убывает, а прибывает. И вновь, теперь уже в 1830-е годы мы находим в элегиях Пушкина скрытые цитаты из стихов Батюшкова. Но смысл их появления теперь иной. В 1825 году Пушкин, полемизируя с Кюхельбекером, обращается к творчеству Батюшкова и стремится доказать возможность создания произведений, не отмеченных печатью унылого однообразия, хотя и предельно близких к признанным образцам элегического жанра. В 1830 году Пушкин вновь сближает свое творчество с творчеством Батюшкова, чтобы избавиться от мучительного противопоставления человека – поэту, противопоставления неизбежного в системе романтического мировосприятия. «Под романтической манерой крылось целое романтическое мировосприятие. Это было понимание жизни как жизни поэта» [4] [Пастернак Б. Л. Избранное в двух томах. – Т. 2. – М., 1985, с. 212.], – писал Б. Л. Пастернак в «Охранной грамоте». Именно так понимает жизнь и Батюшков, когда записывает в своей книжке: «Кругом мрачное молчание, дом пуст, дождик накрапывает, в саду слякоть. Что делать? (...) Мне очень скучно без пера. Пробовал рисовать – не рисуется; что же делать, научите, добрые люди, а говорить не с кем. Не знаю, как помочь горю» (303–304). Горе от невозможности поэтического творчества, отсутствие какого-либо другого выхода из ситуации одиночества, кроме написания стихов – типичное положение романтического поэта, который если не творит, не живет. Пушкин в том же тридцатилетнем возрасте пытается найти иные средства утверждения «самостоянья человека». Отныне образцы батюшковских элегий вводятся в стихотворения Пушкина только в ситуации отрицания. Жизнь реальная судит жизнь поэтическую, и судит строго. Вторую часть «Опытов в стихах и прозе» завершала элегия «Беседка муз», кратко оцененная Пушкиным в 1825 г. – «Прелесть». Тонкий стилист, Пушкин отмечал в «Опытах» те стихи, которые, говоря его словами, были «похожи на Батюшкова». Пушкин явно имел свое собственное представление о поэтическом облике «любимца муз». Пушкин-критик последовательно отвергает все попытки Батюшкова философствовать, выходя за пределы им же самим созданного пластичного идеального мира. «Беседка муз» – в данном случае исключение. В ней поэтическая философия счастливо сочетается с чудесным образом необыкновенного алтаря. Но полная неприемлемость этой философской позиции тридцатилетнего Батюшкова для тридцатилетнего Пушкина ясно видна из сопоставления «Беседки муз» с «Элегией» 1830 года. Стихотворение Батюшкова построено в «пушкинской» двухчастной манере. Процитируем его вторую часть:
Герой пушкинской «Элегии» уже не избранник Муз, не романтик, надеющийся на вечную молодость (гениальный образ Батюшкова «дитя в сединах» еще раз отзовется в стихотворении «Двойник» А. Блока образом «стареющего юноши»). Изменилась элегическая поэтика времени. В элегии Батюшкова прошлое было неизменно, и поэтому веселье юности остается ясным на протяжении всей жизни: ценность в прошлом. В элегии Пушкина время движется, течет, меняет жизнь человека. Меняет настолько, что веселье юности предстаёт как смутное, а не ясное, как у Батюшкова, состояние. В «реке забвения» тонут все заботы, обременяющие человека. В «море грядущего» они вновь наполняют человеческую жизнь. Но только благодаря первой, тяжкой и мрачной части пушкинской элегии, стихотворение может завершиться выражением надежды, несомненно, близкой идеальному миру элегии Батюшкова. То, что в романтической элегии Батюшкова представало как идеал, о котором поэт молит Муз, в элегии Пушкина провозглашается нормой человеческого существования, купленной дорогой ценой тревог, труда и несчастья. В элегии Батюшкова мы вновь видим кольцевое построение, невозможное в поэтике Пушкина. Но, с другой стороны, если бы русская романтическая традиция и поэзия Батюшкова не создали такой тип элегии, то пушкинским «открытым концам» и контроверзам не суждено было бы появиться на свет. Строго оценивая творчество своего старшего современника, Пушкин акцентирует в поэтике Батюшкова антологические черты, особенности, присущие антологической поэзии: пластичность идеального мира, яркость описаний, умение одной деталью передать движение. Антологические стихотворения, написанные на элегические темы (в основном, посвященные описанию перипетий любви), подчас становились в XIX в. жанровой маской, скрывающей глубоко личное переживание. Два стихотворения Пушкина 30-х годов «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем» и «Когда в объятия мои» являются своеобразными откликами на переведенные Батюшковым эпиграммы из греческой Антологии [5] [См.: Ботвинник Н. М. О стихотворении Пушкина «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем...». – Временник Пушкинской комиссии. 1976.– Л., 1979, с. 150; Россина Н. В. Прием контраста в лирике А. С. Пушкина 1830-х годов,– Вестник МГУ. Сер. 9. Филология.– 1987, № 3, с. 15–16.]. В этих стихотворениях, не скованных жанровыми рамками, хотя и легко соотносимых с антологическим жанром, отрицание идеального мира любви, воплощенного в поэзии Батюшкова, отразилось, быть может, еще более явно, чем в элегиях тех лет:
Ср. у Батюшкова:
Понимание, что закон жизни един для всех смертных, – характерная жанровая черта элегии. Но вместе с тем, романтическая элегия выделяет из всего мира поэта, чтобы противопоставить его этому закону. В 30-е годы Пушкин лишает поэта-элегика его привилегий, подчиняя общему закону и принимая жизненный закон как благо. Поэтому и положение нарушителя закона – романтического поэта-безумца – изменяется в мире. Из вольного жителя лесов он превращается в узника, опасного для людей, подобного зверю. Пушкину дорог не разум, дорога свобода. Но подлинно человеческая свобода оказывается возможной только благодаря разуму, сопряженному с чувством: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать» (III (1), 228). Так постепенно формируется новая концепция человека в поэзии Пушкина. Именно она, эта концепция, в настоящее время ощущается как живая, необходимая и актуальная ценность. Тем более знаменательно, что она формировалась в постоянном контакте с иной поэтической системой, а ее появление во многом зависело именно от этого контакта. Итак, можно сделать выводы: 1. Элегическая лирика Пушкина 1825 и 1830 годов связана с полемическим переосмыслением ряда конкретных элегий К. Н. Батюшкова. 2. Пушкин обращался к творчеству Батюшкова как к романтическому и полемизировал с романтическим методом в целом. 3. В основе этой двойной полемики – с Батюшковым и романтиками – лежала полемика с собственным романтическим творчеством, на которое Батюшков оказал большое влияние. 4. Эта полемика имела для Пушкина значение утверждения через отрицание и созидания через разрушение, – утверждение новой концепции человека и созидание нового лирического стихотворения, соотнесённого с жанром элегии. |
|||||||||