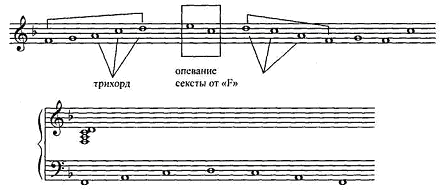
Очень приятно писать о чем-нибудь возвышенном в музыке. Например, об историческом значении малой терции. Или других интервалов. Сегодня это приятно вдвойне. Шестьдесят лет назад родился один из самых чутких русских музыкантов. Его зовут Василий Павлович Соловьев-Седой, и его песни знают все. А его рабочий материал точно такой же, как у каждого композитора, — интервалы, определенным образом организованные.
В чем уроки организации материала Соловьевым-Седым?
Немного теории. Каждое сцепление звуков во времени есть интонация, несущая в себе тот или иной эмоционально смысловой заряд (или комплекс зарядов). Сцепление интонаций в единое целое осуществляется по принципу прямой и обратной связи, то есть каждая предшествующая интонация влияет на последующую, последующая — на предыдущую. Характером сочетаний интонаций и определяется в конечном итоге содержание музыкального произведения, а от того, насколько этот характер соответствует общественным тенденциям, зависит современность произведения.
Итак, как же обстоит в этом смысле дело в творчестве Соловьева-Седого? До зрелого его этапа лицо советской массовой песни в значительной мере определялось тем, что выходило из-под пера И. Дунаевского и В. Захарова. Первый опирался на интонации, говоря суммарно, городские, второй — на интонации крестьянские. Именно в их музыке с наибольшей яркостью были использованы и развиты оба рода интонаций и потому освещен чрезвычайно широкий (особенно у Дунаевского) круг явлений действительности. И, наконец, в значительной мере через их руки получил молодой Соловьев-Седой представление о бытующих в различных слоях общества современных песенных формах. Он еще не сложился как композитор, когда полные светлой душевной энергии мелодии Дунаевского и Захарова, рожденные и стимулируемые мощным ходом развития советского общества, разносимые граммофонами, радиорепродукторами, подхватываемые вчерашними солдатами, студентами, по узким полоскам звуковых дорожек кинолент дружно двинулись в самые отдаленные уголки Союза. Они обогащали и воспитывали общественный слух, постепенно подготавливая его к приятию уже более сложных интонационно-песенных форм. Одну из таких форм — причем наиболее значительную и жизненную за всю историю советской песни — создал Соловьев-Седой.
Если проанализировать его творения, нетрудно понять, что элементы городской и крестьянской песенности находятся здесь в теснейшей, органически неразрывной связи. От мелодии к мелодии можно наблюдать не только сам процесс все большего и большего их взаимопроникновения, взаимоврастания, но и его результат, несущий великолепные музыкальные качества — неповторимую свежесть, а вместе с тем и как будто бы совсем привычное в манере художественного выражения эмоций. Короче говоря, можно наблюдать становление своеобразного музыкального дуализма, но не эклектичного, а как бы двуединого. И вот эта-то двуединость есть характернейшая, задающая тон черта стиля лучших, наиболее зрелых песен Соловьева-Седого.
Имело ли ранее место объединение городских и крестьянских песенных интонаций? Да, имело и шло параллельно по трем каналам: город осваивал крестьянское, деревня, с начала капитализации, осваивала городское, армия вбирала в свою песенность и то и другое. Армейская песенность — грандиозный коллектор и трансформатор музыкальных интонаций, которыми насыщен общественный слух времени, различных слоев общества. В ней аккумулируются все попевки, ритмы, кадансы, зачины и кульминации, какие только приносят с собой в казармы люди из деревень и городских предместий; здесь они видоизменяются и накрепко сбиваются в единое целое.
Выдающаяся заслуга Соловьева-Седого состоит в том, что он почувствовал все перечисленные выше процессы интонационного брожения и развил их в своем творчестве в четкой современной форме.
Этот стиль формировался в годы войны, окреп и углубился в послевоенные годы. В нем нашли органичное воплощение многие специфические приемы и закономерности, неоднородные по своим выразительным свойствам, назначению, составу. Среди наиболее простых и распространенных нужно выделить прием «ладового подсвета», когда какая-либо подчеркнуто крестьянская попевка[1][1 Здесь и в дальнейшем под ладовостью понимается ладовость крестьянской песенности в соответствии с учением Ф. Рубцова. Прим. автора.] сообщает особый характер всему последующему («Где ж ты, мой сад?») или предыдущему («Завелась в душе забота») звуковому комплексу, не имеющему специфической ладовой окраски. Прием этот обычно употребляется композитором в песнях без припева, сравнительно коротких, и это естественно, так как на большой мелодический массив заряда одной-единственной попевки может и не хватить. Тогда применяется «окольцовывание» («Поет гармонь за Вологдой», частично «Подмосковные вечера»), когда сравнительно нейтральные обороты, связанные с песенностью города, предваряются и завершаются оборотами остроладовыми.
Наиболее сложный и выразительный прием — прием секстотрихордовости, объединивший воедино мягкость секст («отгородское») и неподатливость трихордов («открестьянское») и давший композитору гармоническую краску, обусловленную внутренними особенностями мелодии (привожу схемы первой фразы запева и начала фортепианной партии):
ПОЕТ ГАРМОНЬ ЗА ВОЛОГДОЙ
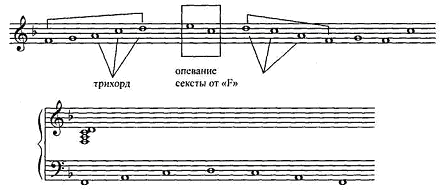
Известна импровизационность мелодики Соловьева-Седого. Она также тесно связана с внедрением в мелодическую ткань характерных ладовых попевок с их независимостью от каких-либо ограничивающих, сковывающих начал, будь то размеренная метроритмическая сетка, свойственная песням чисто городского происхождения, или строгая функциональность. В такого рода попевках все звуки практически равноправны. Отсюда и переменные размеры в песнях Соловьева-Седого, и особая свобода партии сопровождения, и в большом числе случаев стремление распеть трихорды или другой типичный оборот по одному звуку на отдельную долю метра и отдельную гармонию, если почему-либо необходима точная функциональность:
В ПУТЬ

или, в других случаях, пользоваться «септаккордовыми завоеваниями» секстотрихордовости:
ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА
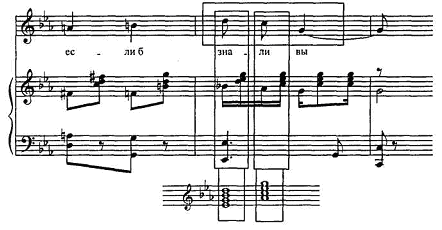
И если, к примеру, Захаров подчинял ладовость мелодики весьма простой гармонической последовательности (Т, S, D), то Соловьев-Седой поступает наоборот. Он выводит гармонию из мелодики. В частности, из мелодического оборота сексты с трихордом возникают септаккордовые комплексы, и не только малые, в пределах малой септимы, что вполне естественно, так как связано с квартовой «этажностью» песен (подобно многим мелодиям крестьянского происхождения), но и в пределах большой, когда отладовые завоевания со свойственной им целомудренностью звучания по аналогии переносятся в сферу более чувственных интонаций города.
Явление секстотрихордовости отчетливо прослеживается при анализе тонально-функциональных планов ряда песен Соловьева-Седого. Так, кульминация «Вечера на рейде» совпадает с субдоминантовой гармонией, что указывает на ее теснейшие родственные связи с городской песенной культурой. Кульминация песни «В путь» (в припеве) колеблется между S и Т, а тональное соотношение частей в сложной двухчастной форме «Что нам ветры» складывается уже в секстотрихордовое объединение:

Большинство песен Соловьева-Седого сочинено в двухчастной или одночастной форме. Форма эта — детище города, и у нее есть свои большие достоинства. Она так же четка, как, положим, план хорошего города, и так же определенна, как режим его деятельности. В этом заключается простота владения ею не только для горожан, но и для крестьян, патриархальность жизни которых была нарушена еще в 1861 году и окончательно исчезла после 1917 года.
Но все-таки Соловьев-Седой постоянно испытывает потребность в расширении песенных форм. Внутреннем расширении.
В крупной форме очень интересна разнонаправленность мелодических движений. В песнях активных, энергичных встречаются взлеты-падения целых фраз. Подобное зеркальное сопоставление, хорошо перекликающееся с темпом и динамикой нашей жизни, блестяще было использовано и развито еще Дунаевским и, возможно, через него освоено Соловьевым-Седым. Но насколько четки, часто пофразны они были у первого, настолько они подчинены особенностям заполнения и опевания оборотов с характерной ладовой окраской в лучших сочинениях зрелого стиля у второго. Здесь «зеркальность» мелодического движения охватывает, как правило, всю песню целиком, когда, положим, до кульминации общее его направление — восходящее, а после — нисходящее. Причем каждая такая линия складывается из пристраиваемых друг к другу мелодических отрезков, включающих в себя ладово своеобразные интонации с характерной для них тенденцией устремленности вниз («В путь»). В этом состоит один из существенных моментов «двуединого» стиля. В этом же, очевидно, и синтез лучших достижений Дунаевского и Захарова. Действительно, на смену захаровской монооборотной песне с типично кудряво нисходящим мелодическим движением пришла песня Соловьева-Седого со множеством разбросанных в ней попевок, связывающих ее с крестьянской культурой, но поданных в той форме организации, которая представляется производной от формы самых боевых песен Дунаевского, помогавшей им играть и сверкать во всю силу.
Чудесному мастеру это по плечу! И вот результат — появление в остросовременной музыке композитора ассоциативных связей с целым миром русской песни минувшего. Пока еще трудно дать точное определение этому явлению, слишком оно глубинно. Но ясно, что это свойство — достояние только высоких произведений искусства, в которых новое содержание как бы подтверждается творческим опытом и «компетентностью» прошедших через десятилетия интонаций и, наоборот, — объясняет, что за ними стоит сегодня. С этим явлением мы встречаемся в самых различных жанрах музыки.
Действительно, стоит услышать хрустальное, «льдинковое» звучание побочной темы первой части Восьмой сонаты Прокофьева — и немедленно вспомнится нам григовский «Gebirgsweise»[1][1 Die Gebirgsweise (нем.) — мелодия гор] (op. 73, № 5).
Почему так ужасает вторая часть Восьмой симфонии Шостаковича? Почему кажется, что именно так и представляем мы (и как будто даже видим) торжество фашистской сволочи? Потому что в тайниках нашего подсознания оставила свой след простейшая пьеска, незамысловатая полька первой половины XVIII столетия, безыскусная музыка которой стала хрестоматийным образцом отстоявшегося, освещенного веками немецкого (Фуга c-moll № 2 из «Хорошо темперированного клавира», т. 1, И. С. Баха), которая преображается у Шостаковича в Gro?vater смерти. Или, прорываясь вдруг сквозь пулеметные очереди труб, с дьявольским лицемерием и ханжеством начинает петь голосом скрипок, производя столь же отталкивающее и противоестественное впечатление, какое некогда производило на слушателей пение Маульташ[1][ 1 Маульташ (от нем. das Maul — пасть, морда) — губастая, прозвище Маргариты, главной героини романа Л. Фейхтвангера «Безобразная герцогиня»] — пение безобразной герцогини...
Так и у Соловьева-Седого: под частый стук колес звучит чудесная, могущая возникнуть только в России песня — мягкая и вольная, широченная, как степь, и длинная, как дорога, певучая и резкая, как порывы ветра, дорогая, как самое свое, сегодняшняя, только что родившаяся — и вырвавшаяся в сейчас через «годов море разливанное». И кажется, что уже не колеса поезда затихают вдали, пронесши мимо нас песню, а отзванивают колокольцы удалой гоголевской тройки. Это летит песня «Что нам ветры».
...«Двуединый» стиль Седого органически связан со всем характером общественного развития нашей страны, когда воистину стираются границы между городом и деревней, когда колхозник в труде своем все более и более связываемый с коллективной собственностью, с техникой, приближается к сельскому рабочему, когда, наконец, день ото дня растут кадры сельской интеллигенции.
И песни Соловьева-Седого дороги нам тем, что наряду с сочинениями других композиторов и в других жанрах, сочинениями, которые будут созданы, создаются или уже созданы, понесут в будущее немеркнущую красоту, неувядаемый родной аромат национальной крестьянско-песенной и городской интонации, сила самобытности которой так велика, что обернет в русскую веру любое наиимпортнейшее мелодическое образование.
Не будем утверждать, что творчество композиторов, даже в лучших своих образцах, исчерпало все возможности использования «двуединости» в рамках песенного стиля; не будем этого утверждать тем более, что в художественном творчестве потолка не бывает. Важно другое, а именно то, что песни Соловьева-Седого — это песни-друзья, песни-воспитатели широких слушательских масс.
Еще вольтеровский персонаж говорил, что не книга та книга, из которой нельзя вынести ничего, даже способа делать булавки. Говоря иными словами, не песня та песня, которая ничему не служит, ни за что не борется. Музыка Соловьева-Седого борется за чистоту, за высокую нравственную высоту советского человека, она воспитывает в нем гордость за свой народ, за свою многовековую историю, прививает ему любовь к русской попевке, к русской интонации, а следовательно, и ко всему тому, что стоит за нею.
Наша песня помолодела. Сегодня мы радуемся тому, о чем прежде грустили. То, о чем петь казалось странным, сегодня закрепилось в общественном сознании в виде полноправных интонаций-образов, волнующих душу советского человека так же и одновременно совершенно иначе, чем некогда экзотический интим «Хасбулатов» волновал целые поколения трудящихся старой России. Это песенное Рио-де-Жанейро исчезло после Октября, но интонация-мечта осталась. Она перестала служить наркотическим средством; теперь нужны были ее новые качества, нужна была мечта-«стимулин».
И в первые же боевые годы Советской власти песня надела шинель и встала под ружье. Так началась ее великая история... Вслед за людьми шагнула она к станкам и на пашни и никогда уже не покидала трудового человека — ни в годы радости, ни в годы тяжких испытаний. Эти славные традиции жанра-труженика сегодня бережет и развивает композитор Соловьев-Седой.