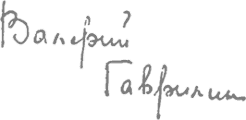 |
||
|
|
||
 |
||
|
Шелухо Е. «Близкие по духу и судьбе» / Е. Шелухо // Музыкант-классик. – 2005. - № 8. – С. 22 – 26. |
Шелухо Е. Январь 1999 года. Один за другим уходят из жизни два крупнейших русских композитора. Представители разных поколений, друзья, ставшие друг для друга «близкими и по крови, и по духу, и по смыслу творчества». Это — Георгий Свиридов и Валерий Гаврилин. Творческое союзничество Свиридова и Гаврилина — важная веха музыкальной жизни России. Излишне говорить, что с творчеством двух великих музыкантов принято связывать целый ряд новых музыкальных явлений, таких, например, как «новая фольклорная волна» или «новая простота». Сама дружба композиторов как явление связи двух поколений органично вписывается в историю русской музыки, где подобное встречается нередко. Среди известных примеров — взаимоотношения Чайковского и Танеева, Рахманинова и Метнера, Мясковского и Прокофьева. Не характерное ли это свойство русской истории, вызванное исконно русским уважением к традиции, потребностью в опыте старшего поколения или, наоборот, в продлении своего дела и передаче опыта молодым? К счастью потомков, подобные творческие союзы открывают новые возможности в исторической оценке личности композиторов и их творчества. Будучи близкими «по духу», Свиридов и Гаврилин имели и схожие судьбы. Оба — выходцы из деревни, получившие академическое музыкальное образование в Петербурге. Художники, всю жизнь мучимые ощущением творческого одиночества, ярко-заметные, но так и не получившие истинного признания при жизни... Их первая встреча произошла после концерта молодых ленинградских авторов, где была исполнена «Русская тетрадь» Валерия Гаврилина. Свиридов тогда сам подошел к молодому композитору и пожал ему руку, поздравив с несомненной удачей. Свиридов был одним из первых, кто увидел и оценил самобытность Гаврилина. Не пропускал ни одной его премьеры, с пристальным вниманием и интересом встречал каждое новое сочинение, отмечая «яркозаметное, отличное своеобразие». Будучи в то время главой Союза композиторов, всячески поддерживал Гаврилина: писал о нем заметки и статьи, отстаивая его кандидатуру при выдвижении к композиторским премиям (Гос. пр. РСФСР, пр. Ленинского комсомола, Гос. пр. СССР). Со временем искренняя симпатия переросла в тесное общение, дружбу до конца жизни. Свиридов, весьма избирательный в выборе друзей и долгое время считавший себя обреченным на творческое одиночество, нашел в лице Валерия Гаврилина редкого единомышленника, о чем признавался в письмах. «...Я считаю Вас человеком очень близким себе и по крови, и по духу, и по смыслу творчества», — писал он. Во многих записях Свиридова союз «Свиридов-Гаврилин» обозначается как нераздельное «мы»: «между нами и другими есть «недоступная черта», как говорил Блок, в самом мироощущении, миропонимании». Общение в письмах — традиционная форма композиторской дружбы — стало едва ли не основной формой общения Гаврилина и Свиридова (обширная переписка композиторов пока не опубликована и хранится в архиве Н.Е. Гаврилиной). У композиторов не было возможности видеться часто. Иногда они не виделись годами. Необычайно ценили возможность встречи. Наталия Евгеньевна Гаврилина до сих пор с трепетом вспоминает о приездах Свиридова в Петербург, когда он вызывал Гаврилина к себе в гостиницу, или же приходил к ним домой, и они долго, иногда — на протяжении многих часов, беседовали. О содержании этих бесед никому не рассказывалось — что ж, это была «святая святых» композиторского творчества. Но то, что обсуждалось, впоследствии находило выражение на страницах дневников, благодаря чему сейчас мы имеем возможность окунуться в атмосферу дружеского общения. Обращение к дневникам особенно актуально в наши дни, когда с чрезвычайной активностью пополняется библиотека композиторских архивов. Открылись новые, в ряде случаев позволяющие иначе взглянуть на ход музыкальной истории, материалы, среди которых дневники Прокофьева, Денисова, Б. Чайковского. В их числе — и дневниковые записи Валерия Гаврилина и Георгия Свиридова , которые, как и неизданный материал их переписки, еще ждут своего часа. На сегодня тема «Гаврилин и Свиридов» открыта. Помимо названных источников ее могли бы дополнить и другие не менее выразительные свидетельства их творческого общения — многочисленные статьи, очерки, эссе, посвященные творчеству друг друга, а также — формы устного высказывания, среди которых вступительные слова перед премьерами, отзывы о музыке в теле- и радиопередачах, выступления в Союзе композиторов. Но это — дело будущего. Сейчас мы лишь слегка прикоснемся к теме, обратившись к материалам наиболее доступным. Не будет преувеличением сказать, что едва ли не каждая дневниковая запись несет в себе отпечаток композиторского диалога. Прямой — в виде многочисленных «Свиридов сказал», «К мыслям Гаврилина» или «О Свиридове», «О Гаврилине», или косвенный, выражающийся в совпадении обсуждаемых тем и мыслей. Записи, обращены к личности и творчеству друг друга, вызывают невольное восхищение — каждое слово в них, каждая мысль проникнуты искренним чувством глубокого уважения и преклонения перед талантом. Такие высказывания нередко выливаются в поэтические и вместе с тем удивительно меткие портреты музыкального стиля. «Музыка Свиридова, — пишет в одной из статей Гаврилин, — /.../ представляется мне тысячью бриллиантовых, направленных прямо в самое сердце слушателя стрел, а сам композитор — каким-то «драгоценщиком» /.../. Он блестящий поэт, Свиридов. Есть у нас прекрасные композиторы — трагики, драматурги, романисты, а поэт, я думаю, один». Разве не прекрасно его изречение о Свиридове: «Современные медики вооружены для борьбы с недугами самыми сложными агрегатами. Без них они бессильны. Но рядом с ними есть такие, которые лечат наложением рук. Они сильны силой природы. Их мало, они не модерны, но они-то и есть подлинные волшебники. Я всегда думаю о них, когда слушаю музыку Г. Свиридова». Какие яркие эпитеты — «драгоценщик», «поэт», «волшебник». «Свиридов, — говорит Гаврилин, — весь от света». Не менее восторженны и отклики Свиридова. «Увы! — восклицает он. — Не всякий советский композитор может сказать подобно Гаврилину: «Пишу свою музыку». Самобытность дарования всегда была редкостью, а в русской музыке наших дней подобное явление уникально». Обращаясь к Гаврилину в письме, он пишет: «Люди жаждут нового искусства, не того «нового», которым наша музыкальная критика велит восхищаться, а того искусства, которое выражает их самих, которое они безошибочно чувствуют и которое появляется у нас — увы! — так редко. И Вы — эту жажду утоляете!». Взаимное чувство в записях композиторов нередко рождает схожие характеристики. Говоря о творчестве друг друга, излюбленными метафорами становятся чистота родника (в оценке стиля) и крепость дерева (в исторической оценке творчества). «Есть искусство, вырастающее как веточка на пышной и богатой кроне нашей культуры, и делает ее еще пышнее и богаче. А иногда, гораздо реже, побег выходит прямо из корня. Он не так тонок, не так нервен к каждому внешнему движению, не так роскошно окружен, не так высоко глядит, но зато более стоек, более основателен и сам способен вырасти в дерево. Именно к таким вот коренным явлениям нашего искусства относятся Твардовский в поэзии и Свиридов в музыке», — заключает Гаврилин. А вот слова, посвященные ему самому. «Его стиль необыкновенно благороден, чист, — пишет Свиридов о музыкальном письме Гаврилина. — Я бы сказал, это чистота источника, родника, артезианского колодца». «Думаю, в этой музыке есть крепость, — заключает Свиридов, — она устоит во времени». И подобных высказываний неисчислимое множество. Возможно, более интересными покажутся те завуалированные проявления творческого диалога, что связаны с общностью эстетических позиций Свиридова и Гаврилина. Чувствуется, что многое между ними обсуждалось, — недаром некоторые записи на одну и ту же тему относятся к одному периоду времени. Мысли одного нередко сразу же получают поддержку и продолжение в дневниках другого. При этом каждая из схожих мыслей, что вполне естественно, выражается по-своему: у Свиридова — деловито и основательно, у Гаврилина — по-народному простовато и полушутливо. Каковы же их творческие установки? Сближают двух великих мастеров размышления о сущности искусства. Они оба подчеркивали его иррациональную природу. Свиридов пишет в дневнике: «В искусстве главное — чего вообще нельзя придумать. Это главное является как откровение». Гаврилин замечает почти по-детски: «Искусство — это когда не нарочно, само собою, нечаянно». В творчестве друг друга подчеркивают, что оно идет от сердца, а потому правдиво и искренно. Гаврилин, говоря о Свиридове, выводит три принципа его искусства: «свежесть чувства, ясность выражения, искренность». Свиридов же, говоря о Гаврилине, отмечает: «Его музыка глубока, чиста, наполнена благородством чувства, она идет от сердца». Высшей этической категорией, применимой к творчеству, так и к творцу, для обоих композиторов становится категория народности. «Искусство, — пишет Гаврилин, — как жемчуг — должно жить на живой теплой груди народа, иначе превратится в жалкую кучку извести...». Эпитетом «народный» композиторы награждают самых ярких, по их мнению, деятелей русского искусства. Среди них — композиторы Мусоргский, Глинка и Рахманинов. Деятели литературы, такие как Блок, Рубцов, Клюев. Говоря об их литературном творчестве, Свиридов отмечает в нем главное — то, что является приметами «народности»: «...Возврат к глубокой простоте, простоте, над которой надо думать и которую надо почувствовать, отказ от всякого эффекта /.../. Выстраданное сердцем слово, глубокая мысль, чувство Родины как целого /.../. Пламенный романтизм, неотделимый от подлинно национального искусства /.../. Отсюда /.../ — возвышенный тон, строгий и лишенный какой-либо выспренности, острое ощущение нашего времени, не в деталях и частных приметах, а во внутреннем его движении». А само понятие «народности» Свиридов расшифровывает так: «...Неотделимость искусства от народа /чуткость к народному сердцу/, любовь, внутренняя свобода и простота его гимнов и, наконец, неподкупность его совести — вот что вкладывалось Пушкиным и Глинкой в понятие народности искусства. Позже, в журнальной статье о Гаврилине, отмечает: «Гаврилин — композитор народный, как были народны композиторы-классики. И это народность в самом высоком понимании, как народны творчество Пушкина или Кольцова, Некрасова или Есенина». «У Гаврилина чисто русская музыка, — продолжает он. — В ней нет ничего чужеродного». Не народность ли как самое главное качество отмечает Гаврилин в музыке Свиридова: «...Благородная философия народного творчества вошла в само его художническое существо. Отсюда — сдержанность в выражении чувств, в применении средств, отсутствие крайних состояний, экстаза, истерики, отсутствие чисто музыкальных преувеличений. /.../ Это высшая вера, этот мудрый оптимизм, мужественность стали главнейшими свойствами музыки Свиридова». Поэзия и благородство, способность этического воздействия на слушателя являлись для композиторов знаком высокой музыкальной духовности, что они неоднократно подчеркивали. «Уважение его к слушателю бесконечно, — пишет Гаврилин о Свиридове, — он... выступает как истинный лаконик: состояния сжаты, спрессованы, но, выпущенные в сознание слушателя, разрастаются там до своих подлинных, огромных размеров и делают свое мудрое, большое и важное дело — очищают желания, раскрывают внутреннее зрение, заставляют понять добро несуетности, чистого помысла». «Музыка Гаврилина, размышляет Свиридов, — это музыка высокого духовного содержания, музыка, наполненная благородством чувств, нет в ней ни грязных музыкальных гармоний, ни грязных душевных помыслов. Она зовет человека к добру, к внутреннему совершенству». И Свиридов и Гаврилин как истинно русские художники не могли не думать и не писать о России. О ней, ее судьбе, о сущности национального — множество интересных мыслей и записей. Из них приведем те, которые — в разных дневниках и в разное время, но так похоже! — формулируют свойства непостижимого русского характера, русской культуры. Одно из главных национальных качеств, отмечаемых обоими мастерами — это исконно русское чувство совести. «Русская культура неотделима от чувства совести», — пишет Свиридов. Для Гаврилина как русского художника чувство совести является главным критерием музыкальной правды. В размышлениях о том, как должна звучать музыка, он пишет: «Тишина — слышен Бог. Шум — бегство от голоса совести». Наряду с чувством совести, «изначальным свойством русского искусства, коренящимся в духовном строе нации, в ее идеалах» Свиридов называет простоту. Эта мысль поддерживается многочисленными гаврилинскими размышлениями о простоте, в одном из которых он приводит меткое изречение преподобного Амвросия Оптинского: «Где просто, там ангелов до ста; а где мудрено, там ни одного. А где нет простоты, жди одной пустоты». И это звучит как девиз композиторского творчества. Еще одним национальным качеством композиторам видится уважение к традиции, что также становится одной из главных позиций их собственного творчества. «Великое искусство только и возможно в опоре на великую традицию», — отмечает Свиридов «Чтобы знать, куда идти, нужно знать, откуда идешь», — вторит Гаврилин. Для последних лет жизни обоих мастеров очень характерны размышления о судьбе России и русского искусства, как правило, пронизанные чувством горечи. «Россия, пишет Гаврилин, — единственная страна, гражданин которой может сказать, что он как чужой в своем отечестве — так хорошо у нас иностранцам и так плохо своим». «Что будет с Русской музыкой? — восклицает Свиридов. — Появляются композиторы — носители народного сознания, народного духа. Судьба их — одиночество и жизнь в постоянном преследовании». Национальная основа художественного видения проявила себя и в высказываниях, посвященных музыкальному стилю. Основные позиции проступают в тех темах, которые наиболее часто затрагиваются на страницах дневников. Одна из них — стремление к синтезу слова и музыки, восходящему к синкретичности народного искусства. Согласно Свиридову «художник призван служить, по мере своих сил, раскрытию Истины Мира. В синтезе Музыки и Слова может быть заключена эта истина». О взаимозависимости музыки и слова размышляет и Гаврилин: «Стихи можно уподобить форме, в которую отливается музыкально-образное литье, — пишет он. — Каждый брак в форме сказывается на качестве отливки. Поэтому текст и музыка зависимы друг от друга и соподчинены». Композиторам вообще было свойственно трепетное отношение к слову, и это качество они особенно ценили в музыке друг друга. «Свиридов, — отмечал Гаврилин, — единственный после Глинки композитор, в котором живет ощущение слова — не смысла слова, а именно красоты звучания русского слова, которое становится неделимым со звучанием музыки». Оба художника были одарены литературно. В одном из писем к другу Свиридов отмечает это качество одаренности: «Вы обладаете подлинным литературным даром (что я заметил уже давно!), имеете свой язык, стиль и манеру высказывания». В музыке, неразрывно связанной со словом неизбежно встает вопрос об исполнительских средствах. Каким должно быть соотношение вокального и инструментального начал, какая роль отводится голосу — этим проблемам посвящена целая группа высказываний. Гаврилин пишет: «Инструменты будут уходить и приходить, стареть и отмирать. Но никогда не исчезнет человеческий голос, никогда не родится нормальный человек без голоса, и никогда не постареет этот инструмент. Он будет жить, пока будут живы люди на земле...». Роль голоса Гаврилин подчеркивает в музыке Свиридова: «В пользу камерной лирики Свиридов утверждает культуру пения здоровым, красивым голосом — наиболее консервативную, но и наиболее объективную, здравую, понятную и приемлемую большинством слушателей, наиболее вневременную, интернациональную, имеющую наибольший запас прочности и способную сохраниться бесконечно долго, если, конечно, не забывать за ней ухаживать». Приоритетом вокального начала обусловлено особое отношение композиторов к инструментальной партии. Вопреки сложившейся в музыкальной практике традиции использования «пышного, многозвучного, многонотного симфонического оркестра» композиторы ищут и добиваются звучания «совсем нового, тихого, простого, без напряжения, без пафоса, без игры фантазии». Как говорит Свиридов, «надоел — симфонизм! Хочется музыки тихой, мелодичной, простой, эмоциональной, духовно наполненной». Известным результатом его поисков стал инструментальный ансамбль. Гаврилин же объясняет свое стремление к небольшим составам несколько иначе, он пишет: «Город дал мне образование, но в музыке я остался деревенским. Моя любовь к пению — из деревни. Все, что касалось глубоких и серьезных чувств — в деревне изливалось в пении. И только легкомысленное — всякие там пляски, выкличка коров и т.д. происходило в сопровождении инструментальной музыки. Оркестров, естественно, не было». Близость к народному искусству предопределила основную форму музыкального высказывания — песню. «Моя форма — песня, — декларирует Свиридов. — Отдельная, заключенная в себе идея». Для Гаврилина песня также «обнаружила необыкновенно разнообразные, поистине неисчерпаемые возможности». О ней существует немало гаврилинских афоризмов, среди которых: «Песня — это царство мелодии» или «Песня — это листва на древе музыки». В творчестве своего друга Свиридов отмечает несомненную роль песенного принципа: «Никому не удавалось схватить так современную народную жизнь в песенных формах, как это сделал Гаврилин», — пишет он. Высказывания о миниатюре демонстрируют противостояние творчества Свиридова и Гаврилина современному симфонизму. «Миниатюра по своему духовному, душевному багажу, по смелости открытия иной раз значительнее части симфонии», — пишет Гаврилин. На этой почве у Свиридова и Гаврилина разгорается настоящая полемика с крупнейшим симфонистом-современником Шостаковичем. В одном из своих литературных выступлений он отметил большое дарование молодого Гаврилина, сказав при этом, что, к его огорчению, «он мало внимания уделяет крупной форме./.../ Все же в крупной форме больше возможностей до конца раскрыть нечто важное, значительное. ... Мне кажется, — добавил Шостакович, — что при его даровании мы вправе ожидать от этого автора более масштабных произведений». Страницы гаврилинского дневника фиксируют его эмоциональный «ответ» на критику: «Д. Шостакович говорит: симфония — царица музыки... Только в крупной форме композитор выявляется наиболее полно... Какие странные, необдуманные высказывания... Почему-то в каких-то искусно сложившихся формах, и в живущих всего-навсего несколько десятков десятилетий предполагается выражение, причем наиболее полное, личности композитора, независимо от его пола, происхождения, судьбы, взглядов, пристрастий, морали, свойств характера, состояния здоровья, образования, места жительства, окружающей среды, отношения к общественной жизни, к друзьям и т.д.». При чтении и сопоставлении двух композиторских дневников открывается удивительное — начинаешь ощущать их не как разрозненные книги, а как единое целое. Как беседу двух друзей, завязавшуюся на всю жизнь. Общие темы, общие взгляды, схожие творческие установки двух русских художников позволяют поставить множество вопросов — об их отношении к жанрам, к личностям, к эпохам. А ответы на них — дело будущих публикаций. |