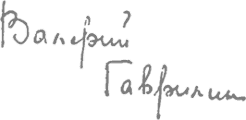 |
||
|
|
||
 |
||
|
Сохор А. Две «тетради» В. Гаврилина // Сохор А. Статьи о советской музыке. – Ленинград, 1974. – С. 170-177. |
Две «тетради» В.
Гаврилина Наверное, никогда еще вокальный цикл не пользовался таким вниманием со стороны композиторов, как в последние годы. Тут, должно быть, сказывается общее для современной советской музыки влечение к более тесному и разнообразному по формам синтезу со смежными искусствами и прежде всего с искусством слова — поэзией. К тому же жанр вокального цикла дает большие возможности для конкретизации мысли (благодаря союзу с поэзией) и одновременно для обобщения, недостижимого в такой же мере в рамках одного романса (благодаря циклической форме). Среди новых вокальных циклов много интересных произведений, есть несомненные большие удачи. В частности, к ним относятся, на мой взгляд, яркоталантливые вокальные циклы молодого ленинградца Валерия Гаврилина[1][1Валерий Александрович Гаврилин родился в 1939 году в г. Кадникове Вологодской области. В годы учения в Ленинградской консерватории, кроме «Немецкой тетради», сочинил симфоническую сюиту «Тараканище», шуточную кантату «Мы говорили об искусстве» (собственные слова), три квартета и др. В 1964 году окончил консерваторию как композитор (класс О. Евлахова), представив «Русскую тетрадь», и как музыковед-фольклорист (руководитель — Ф. Рубцов) с дипломной работой о связях песенного творчества В. Соловьева-Седого с народной песней. С 1965 года член Союза композиторов] —«Немецкая тетрадь» для мужского голоса и фортепиано (слова Гейне) и «Русская тетрадь» для женского голоса и фортепиано (тексты народные). Генрих Гейне — сравнительно редкий гость в советской музыке. Быть может, устарели его романтическая ирония и скрытая за нею страстная тоска по идеалу? Гаврилин убедительно опровергает подобный взгляд. Герои цикла — типичные романтики. Их поэтическим «парениям духа» противостоит окружающая житейская проза. И вот оказывается, что этот конфликт, знакомый по бесчисленным образцам искусства XIX века, трогает и сегодняшнего слушателя. Очевидно, есть в нем нечто существенное для многих эпох, включая современную, и оно будет жить, воскресая во все новых художественных творениях: ведь красота человеческой души никогда не примирится с мещанством, филистерством, воинствующей пошлостью. Вместе с тем на примере «Немецкой тетради» видно, что возрождение романтического конфликта оправдывает себя при одном непременном условии: когда сохранена возвышенность, «идеальность» положительных образов. В этом смысл такого возрождения. В этом же «секрет» успеха молодого композитора. Один из характерных для Гейне образов — природа, сочувствующая, сопереживающая поэту, — предстает в первом романсе «Осень». Открывает его фортепианное вступление — лаконичный «тезис»: мрачный хорал в низком регистре сменяется свирельными наигрышами в высоком. (Подобные наигрыши, каждый раз новые, звучат и в других номерах.) Это сама «неземная» чистота, противостоящая злу и страданиям, соединенная с частым ее спутником — хрупкостью (вспомним лирику С. Прокофьева). И далее, когда вступает голос, в его мелодии, одновременно распевной и «говорящей», слышится печальное раздумье. И тут же — эмоциональная вспышка: «Ветер, ветер листья рвет, рвет ветер, ветер листья рвет, ветер листья рвет...» Повторяющиеся слова произносятся убыстрений, учащенно (прием, который автор цикла использует неоднократно). Осенняя буря созвучна душевному смятению героя-романтика. Не только фортепиано, но и голос берет на себя функцию звукописи, что тоже характерно для Гаврилина. Вокальная партия в его «Тетрадях», играя ведущую роль, богата разнообразными средствами интонирования. Основное из них — собственно мелодическое пение с аккомпанементом. Но рядом речитация, говорок, монодия без сопровождения, пение, лишенное вибрации («мертвым голосом»), разговорные фразы (без музыки), глиссандо (иной раз через 2—2,5 октавы), ненотированные возгласы и вскрики, причитания и т. д. Еще и еще раз убеждаешься в том, что поистине неисчерпаемы выразительные возможности древнейшего из музыкальных инструментов — человеческого голоса, когда им пользуются с любовью и пониманием. В романсе «Осень» всего лишь четыре строки поэтического текста, да и нот немного, а содержание значительно. Способность человека тонко ощущать природу, сливаться с ее настроением выступает здесь как одна из привлекательнейших сторон романтического мировосприятия. Другая тема в романсах «Милый друг» и «Гонец». Это любовь, застенчивая и самоотверженная. В «Милом друге» разговор о ней согрет доброй усмешкой. Поэт слегка подтрунивает над влюбленным приятелем, у которого сердечный жар прожег дыру в жилете: в аккомпанементе звучат задорные приплясывающие фигуры, а в мелодические фразы голоса — светлые и теплые по интонации — вплетаются многочисленные поддразнивающие повторы слов (знакомый прием, обретающий теперь новый смысл). Кончается же каждый раз такое подтрунивание забавными «приговариваниями», которых нет у поэта: «А-у, а-у...». Все это мило, смешно и притом очень в духе гейневской лирики: чем сильнее и чище чувство, тем глубже оно скрыто за броней мягкого юмора (или горькой насмешки над собою) . По-иному, по тоже в романтическом ореоле предстает любовь в «Гонце». Перед нами нечто вроде баллады. Контрастно сопоставлены картины стремительной скачки на коне и горестные монологи героя, которому нет жизни без любимой. Яркая по материалу музыка не лишена концертной эффектности, хотя речь идет о серьезных, что называется, «роковых» чувствах. Традиционно условная романтическая тема становится, таким образом, поводом для создания красочного «зрелища». Вероятно, это можно объяснить: многие ли сегодня воспринимают всерьез короля Дункана и его златокудрую дочь... Однако подобная трактовка не в духе всего цикла. Но вот возвышенные идеалы сталкиваются с реальной жизнью («Разговор в Падерборнской степи», «Ганс и Грета»). В первом из романсов спорят между собой мечтательный поэт и трезвый скептик. Романтику слышатся звуки сельского танца, охотничьего рога, пастушьей волынки, а его ядовитый оппонент безжалостно разрушает иллюзию: то хрюкают свиньи и горланит свинопас. Эту коллизию Гаврилин раскрывает в лаконичных, точно найденных музыкальных образах. С одной стороны — ажурные наигрыши, нежные переборы и переливы звуков в высоком регистре. С другой — угловато-неуклюжие, тяжеловесно кривляющиеся плясовые фигуры. В фортепианной интерлюдии они получают характер самодовольного бездушия (по указанию автора, играть здесь надо «без эмоций») и угрозы. В то же время они являются искаженными вариантами тех самых наигрышей, которые символизировали красоту чувств, природы, искусства. Прием гротескного преобразования тематизма, идущий от Берлиоза (вспоминаются также Малер, Шостакович), использован здесь для выражения глубокой мысли поэта: пошлость — оборотная сторона той же красоты, глумливое выворачивание ее наизнанку. Но побеждает в музыке (как и в стихах) фантазер. В коде романса торжествует то прекрасное, что таится в его душе. Столкновение идеалиста с филистерской действительностью приобретает трагический характер в романсе «Ганс и Грета». Любовь и страдания молодого Петера — родного брата шубертовского мельника — переданы и традиционными интонациями австро-немецкого романса (Шуберт), и мечтательными наигрышами, и убыстренными повторами слов. А из музыки свадебного веселья Ганса и Греты — какого-то слишком уж «правильного», механистичного — вырастает еще большая, чем в «Разговоре...», фортепианная интерлюдия, которая рисует разгул пошлости, безжалостно больно бьющей романтика. В конце тонкая деталь: в размеренное торжественное аккордовое движение вплетается одноименный минор. Для кого свадебное шествие Ганса и Греты выглядит праздничным, а для кого — похоронным... Несколько особняком стоит в цикле романс «Добряк». У его героя ум скептика. С иронией поет он о буржуа, убивающих человека своей «доброжелательностью». Повторы слов на сей раз звучат язвительным передразниванием их пустозвонства. Вместе с тем герой не унывает. Он полон жизненной энергии, чем напоминает Фигаро. Есть у него и свой припев-клич «та-та-та-та-та», аналогичный «ля-ля-ля...» россиниевского цирюльника. Этот фанфарный клич пробивается через хроматические «заграждения» в аккомпанементе, знаменуя возможность победы над злом. «Человек, помоги себе сам» — такова мысль романса, таково условие победы. О свежей, всегда образной и притом «немногословной» музыке «Немецкой тетради» можно было бы сказать еще немало добрых слов, отметив удачные подробности мелодики, интересные гармонические находки и другие детали. Но главное — молодой композитор сумел сделать романтическую поэзию Гейне заново близкой современному слушателю. Об этом говорит неизменный успех его цикла в самых разных аудиториях — от Малого зала филармонии до университета культуры. Ценные черты таланта Гаврилина, обозначившиеся в гейневских романсах, проступили еще яснее в таком самобытном произведении, как «Русская тетрадь». Более того, народная песня оказалась для его очень почвенного дарования поистине благодатной основой. Композитор взял тексты русских песен, написав на них оригинальную музыку. По этому пути после «Песен вольницы» С. Слонимского пошли сразу несколько молодых композиторов. Но было бы неверно считать его обусловленным некоей модой. Собственную музыку на народные слова сочиняли еще Даргомыжский, Мусоргский, И. Стравинский (равно как многие авторы прилагали новые тексты к народным мотивам). Опыт Гаврилина тем более оправдан, что он обратился не к общеизвестным старинным народным песням, а к записанным им в современной деревне песням-романсам и частушкам позднейшего происхождения. Тексты и напевы не соединены в них прочными вековыми узами. И это позволило композитору-фольклористу, узнавшему русскую песню, что называется, из первых рук, по-своему сочетать различные строфы и строки поэтических первоисточников. Но, подходя свободно к текстам народных песен, автор «Русской тетради» остается верен их подтексту, то есть глубинному смыслу и духу. Три сферы жизненных явлений отражены в «Русской тетради», три внутренних темы переплетаются в ней. Одна — окружающий мир: пейзаж и быт. Другая — страсть и нежность любящей девушки, основной героини произведения. Третья — ее печаль, тоска, гибель ее любви, что означает и ее собственную гибель. Жизнь — любовь — смерть... Все три темы намечены уже в первой части цикла, его своеобразном прологе — «Над рекой стоит калина». В двух «Страдальных» (№№ 2 и 3) с нарастающей силой звучит мотив любви. Но в «Зиме» (№ 4) происходит «срыв», впервые встает страшная угроза одиночества. Это — первая вершина цикла, одна из его трагических кульминаций. Далее героиня пытается забыться, убедить себя и других в естественности своего веселья («Сею-вею» и «Дело было»). Однако седьмая часть («Страдания») знаменует новую трагическую вершину, новый и на этот раз окончательный перелом. Произошла самая большая и невозвратимая утрата: потеряна вера в милого. Все рухнуло, надежды больше нет. Замкнулся второй круг. Последняя, восьмая, песня, «В прекраснейшем месяце мае», — это эпилог, прощание с любовью и с самой жизнью. Драматургия вокального цикла — проблема, по существу еще не разработанная в музыкознании (особенно в отношении советской музыки). Трудно поэтому оценивать и то, что сделано в этом смысле Гаврилиным. Но бесспорно, что в «Русской тетради» «концентрическое» построение цикла (с двумя кругами и двумя кульминациями) на основе внутреннего сюжета (судьба любви) оказалось удачным. Одно лишь вызывает сомнение: во второй половине произведения возникает ощущение затянутости, и не потому ли, что пятая и шестая песни, в общем, близки по мысли и образу? Такое сходство соседних частей было допустимо в первом круге (№№ 2 и 3), но не все, что хорошо однажды, может быть повторено... Главная тема цикла — любовь — постоянно ассоциируется в народнопесенных текстах с цветами. Это и калина с малиной (№ 1), и роза — «цветочки алые», что растут в саду (№ 3), и просто цветики, «цветочек — стебелечек», сад, цветущий луг (№№ 5, 7, 8). В музыке любовь тоже показана как щедрое цветение жизненных сил. Чувство выражено сначала в общепринятой, так сказать, объективной форме частушки с бойкими, лихими вскриками и скольжениями голоса (№ 2, «Страдальная») . Затем (№ 3) тот же жанр «страданий» (а ведь страдать — по-народному значит любить) получает более разнообразное и индивидуальное преломление. Рядом со страстной или нежной речитацией появляется пение, у рояля звучат прозрачные, хрупкие наигрыши (они образуют линию, метрически совершенно независимую от голоса). Возникает чудесный, поэтичнейший «автопортрет» девушки. Любовь с самого начала неразлучна с тоской. Обе внутренние темы цикла вместе и рождаются: в первой песне на одну и ту же музыку приходятся слова «ох, тошно, ох, худо мне» и «буду ждать парня». Но пока чувство цветет, тоска прорывается лишь однажды — в неожиданно страстной фразе «Истомилась я без милого друга» (№ 2). Гаврилин умеет выделять вот такие «ключевые» фразы (или отдельные слова), резко меняя темп, динамику, весь характер движения. Подобные сдвиги (с обязательными subito p или subito f) встречались уже в гей-невском цикле. Особенно же много их в «Русской тетради», и они хорошо передают внутренние контрасты душевного мира героини, ее метания, драматизм ее судьбы. Печаль в «Страдальной» (№ 2) еще не омрачает чувства, ее повод — недолгая разлука. Но в «Зиме» (№ 4) она вырастает в грозную силу. Трогательные причитания-жалобы сразу дают почувствовать одиночество героини. Не только вокруг свирепствует мороз. Холод проник в душу, и от него никуда не уйти. «Холодно мне» — слова эти произносятся в четвертой части много раз: сперва просто и сдержанно, а потом с возрастающим волнением, пока не переходят в стоны отчаяния (глиссандо), вводящие в кульминацию. Горестные восклицания накладываются на картину вьюги, от которой уже веет жутью. Еще в «Немецкой тетради» обнаружилось умение композитора выявить суть различных музыкальных образов, доведя каждый до четкой, лапидарной формы, а затем столкнуть их в драматическом конфликте. В «Зиме» вновь использован этот метод. Здесь сопоставлены те образные сферы, те чувства и явления, которые частично уже предстали в предыдущих песнях, хотя и в ином качестве. Это тоска (жалобы «холодно мне»), к которой присоединяется тревога (большой эпизод беспокойного, лихорадочного веселья, где свирельные наигрыши подчиняются навязчивому ритму танца). Это любовь, которая вспоминается как в забытьи (безжизненно застылый «жестокий романс» «Домой возвратилась с прогулки...»). Это, наконец, объективный мир (быт и природа), обрисованный в первой песне несколькими тонкими штрихами (обращают на себя внимание, в частности, гармонические приемы, оригинально развивающие народноладовую переменность[1][1 В начале песни — последование трезвучий в фа мажоре. При повторении той же попевки, казалось бы, целиком фа-мажорной, гармонизация уже совсем иная, с отклонением в ля-бемоль мажор. Здесь своеобразно реализуется и развивается потенциальная переменность ладогармонических функций, свойственная народной песне. Звучит все это и просто и свежо. Теми же качествами отличается гармонический язык «Немецкой тетради», где развиты отдельные приемы прокофьевской гармонии. Например, в «Гонце» вводное трезвучие (до-мажорное в ре-бемоль мажоре) вырастает в целую вводную тональность и «тянет» за собою свои побочные ступени (трезвучия ля минора, ре минора, фа мажора)]), а теперь показанный крупным планом, с оркестровым размахом (картина вьюги). Никакой специальной разработки симфонического типа в «Зиме» нет, и она в данном случае не нужна. Само сопоставление контрастных образов уже рождает напряженность. Во втором круге песен (№№ 5, 6, 7) трагизм углубляется. Словно бы отходя на время от лирики, Гаврилин дает подряд две части, основанные на народнотанцевальных жанрах (хоровод, пляска). Но это отстранение мнимое. Веселье тут такое, как в «Гопаке» Мусоргского или в «Песне о нужде» из еврейского цикла Д. Шостаковича, — только чтобы скрыть горечь, обиду, накипающие слезы. Однажды, в песне «Дело было», они все же прорываются наружу (речитация в духе «страданий»: «Горько плачет и рыдает красавица...»). А в седьмой части («Страдания») возвращаются и долгие причитания-жалобы, и распевы (на этот раз по многу тактов без сопровождения), и частушечные наигрыши, которые перебиваются теперь чисто разговорными фразами. Этот безыскусный прием производит — именно в силу своей простоты — сильнейшее впечатление. Заканчивается же часть длинной речитацией без аккомпанемента с горестным заключением-плачем. Эпилог («В прекраснейшем месяце мае») рисует картины безмятежного счастья, цветущей любви. Музыка здесь особенно нежна и красива. Но... счастье и любовь — это лишь воспоминания; на всем лежит печать отрешенности и огромной душевной усталости. Голос звучит без вибрации, мертвенно, будто героиня глядит на мир откуда-то издалека, «с того света». И когда она произносит последнюю фразу, совершенно независимую метрически от аккомпанемента: «Прощай, мой милый, мой дружочек! Ты напиши мне письмецо...» — становится ясным, что это конец всего, расставание с жизнью. Какова же основная идея сочинения? Тут напрашивается сопоставление «Русской тетради» с появившейся одновременно кантатой Г. Свиридова «Курские песни». Там тоже из последования песен рождается повествование о горестной девичьей судьбе, и оно, в конечном итоге выражает мысль о душевной красоте и этической возвышенности многострадальной русской женщины. Эта мысль заключена и в созданном совершенно независимо от «Курских песен» цикле Гаврилина. Внутренняя близость названных произведений определяется и тем, что объект обоих авторов не песни как таковые,[1][1 В кантате использованы и фольклорные слова и напевы, в цикле же — слова и характерные признаки фольклорных жанров] а тот мир, который в них отражен: народные характеры, народное миросозерцание, поэтические чувства любви и верности, страдания обманутой девушки, природа и быт. Сквозь песни видны люди, чьи судьбы в них запечатлены, видна сама жизнь. Это — драгоценное качество искусства!.. Наконец, усматриваются некоторые музыкально-стилистические параллели (натурально-ладовая основа языка, скупость фактуры, диатонические полифункциональные гармонии как тембровые пятна, длительные остинато без нагнетаний и т. п.). Однако у Гаврилина вполне достаточно и своего, самостоятельного, так что перед нами не влияние, а проявление родственных устремлений. Скорее же всего здесь можно видеть новое доказательство жизненности свиридовских находок, которые входят сегодня в общий стилевой фонд советской музыки. Как дальше будет расти привлекательное дарование Гаврилина? Это зависит от того, осознает ли и захочет ли молодой композитор развивать наиболее самобытные и сильные стороны своей индивидуальности. Его можно отнести к типу композиторов мелодического (точнее говоря, песенного) мышления, тяготеющих к объективным образам (включая лирические). Опыт мастеров старшего поколения показывает, что такие авторы достигали самых высоких успехов, если только оставались всегда верны этим основам своего творчества (Прокофьев, Орф) или во всяком случае возвращались к ним после поисков в других областях (Свиридов). Молодое поколение не всегда учитывает это: некоторые тянутся к экспрессивной музыке субъективистского характера или же к неоимпрессионистской, с «разорванным» тематизмом, что кажется им непременным условием подлинной современности. Между тем их тип дарования чужд этому. Он дает возможность проявлять безусловную оригинальность иным, гораздо более естественным и надежным путем, не для всех, кстати говоря, доступным, — создавать мелодически самобытные темы и, уже исходя отсюда, находить соответствующие средства выразительности. Сравнивая произведения такого рода авторов (например, ленинградцев Л. Пригожина и Б. Тищенко), в которых был избран именно этот путь, с другими, где те же композиторы от него отходят, ясно видишь насколько первые и разнообразнее, и свежее, и — тем самым — современнее. Великое дело — верность самому себе! Пожелаем же В. Гаврилину сохранить ее в новых сочинениях, в тех крупных работах с большой общественной проблематикой, которые обязательно должны появиться из-под его пера. Его ждет многое, и мы многого ждем от него. |