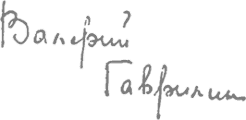 |
||
|
|
||
 |
||
|
Тевосян А. |
А. Тевосян. Незримые золотые колокольчики высоко и тонко вызванивали прозрачную музыку жизни. Бывают темы, которых ждешь, к которым готовишься, о которых постоянно думаешь, но когда наступает долгожданная встреча, прикасаешься к ним с душевным трепетом и волнением. Слишком о многом хочется сказать, слишком многое сплелось в один тугой узел. К тому же общительность и доступность сочинения, его удивительная целомудренность, казалось бы, заведомо отторгают от себя привычные музыковедческие разборы. Хочется, не разрушив, донести до читателя неповторимую интонацию самой музыки. «Перезвоны» Валерия Гаврилина принадлежат к тем немногочисленным явлениям искусства, которые при первом же знакомстве завораживают спокойно льющимся внутренним светом, покоряющей искренностью и свежестью образов. С радостным волнением прозреваешь в них черты чего-то близкого, родного, что как будто забылось, но теперь неожиданно всплыло из глубин памяти. При внешней безыскусности и простоте оно таит подлинную духовность и глубину. Из пестрой мозаики картин, как из отдельных голосов, складывается грандиозная многоплановая фреска. Здесь и «массовые сцены» с элементами хорового театра, и театральный монолог, и сольные вокальные номера, дуэты и трио с хором, хоры a cappella и в сопровождении инструментального ансамбля и одинокая, как тоскующая человеческая душа, дудочка. И это не случайно. Ведь композитор шел не от готовых жанровых канонов, но от возникшего перед его мысленным взором и слухом грандиозного образа. Так и восприняла его широкая аудитория. «В „Перезвонах" я слышу голос народной жизни во всем ее разнообразии, — писал Василий Белов. — Слышу отзвуки древних языческих заклинаний, причетов, свадебных и праздничных песнопений, чуется в них ярмарочное многоцветье и мощь колокольных благовестов. А на какой пронизывающей художественной высоте оказалась в этом произведении наша северная частушка!»[1][ 1 Белов В. Из народных глубин // Красный север. Вологда. 1985. 10 мая. Впервые «Перезвоны» прозвучали 17 января 1984 года в Ленинграде и 12 февраля того же года в Москве (до этого звучали отдельные фрагменты) в исполнении Московского камерного хора, хора студентов ГМПИ им. Гнесиных, солисты: Н. Герасимова, В. Ларин, Р. Суховерко (чтец), П. Тосенко и А. Любимов (гобой). Дирижер В. Минин]. И действительно, особую прелесть и свежесть сочинению придали зазвучавшие в нем частушки, прибаутки, считалки — пронзительный своей первозданностью праздничный мир детской игры и народной смеховой культуры, а рядом — боль, горе, вечные поиски добра и справедливости[2][ 2 В «Перезвонах» шестнадцать номеров: «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), «Дудочка» (№ 3), «Ерунда» (№ 4), «Посиделки» (№ 5), «Ти-ри-ри» (№ 6), «Дудочка» (№ 7), «Вечер» (№ 8), «Воскресенье» (№ 9), «Ночью» (№ 10), «Страшенная баба» (№ 11), «Белы-белы снеги» (№ 12), «Молитва» (№ 13), «Матка-река» (№ 14), «Дудочка» (№ 15), «Дорога» (Ms 16)]. Родив нестерпимо мучительную и неодолимую, у последней черты, жажду жизни и света, они прорвались, наконец, в страшном, во всю вселенную нечеловеческом вопле — как будто возникнув из-под земли и достигнув самого неба, могучей волной выплеснулся он в ошеломляющем своей первозданной, языческой силой хоре «Матка-река! Не гаси свечу» (№ 14). Так, за причудливой игрой слов и звуков, веселых скоморошин и по-детски непосредственных «перевертышей» постепенно открылся истинный смысл и масштаб сочинения — не сами слова и звуки, не их прихотливое кружево и озорная игра, не отдельные колоритные сценки, но величественность мирозданья, сопряжение в нем разных начал, непреходящие ценности жизни — вот его суть, его прочная основа. В. Гаврилин сопроводил свои «Перезвоны» подзаголовком: «по прочтении Шукшина». «Я не был знаком с Василием Макаровичем, хотя, казалось бы, должен был, — писал композитор, — где-то рядом, близко проходили наши пути. Он хотел, чтобы я писал музыку к фильму по его сценарию «Мой младший брат», но совместная работа не состоялась, не успели... Живет песня «Два брата» на слова Виктора Максимова, которая должна была войти в картину. Еще раз я «встретился» с Шукшиным, когда Михаил Ульянов пригласил меня писать музыку к спектаклю «Степан Разин» по кинороману «Я пришел дать вам волю» в Театре имени Вахтангова. Из музыки к спектаклю в «Перезвоны» вошли два фрагмента (имеются в виду «Смерть разбойника» и «Ерунда». — А. Т.). Емкий смысл этих слов — путеводная нить в образном мире «Перезвонов», в ответах на вопросы: в чем они идут от Шукшина? В чем сказывается эта взаимосвязь (притом, что «Перезвоны» почти целиком основаны на текстах самого композитора)? По-видимому, есть какая-то глубинная, независящая от вида искусства близость взглядов, отношений к людям и жизни, нравственных позиций — близость художественных миров, в основе которых правда, добро и красота. Сам подзаголовок «По прочтении» невольно вызывает в памяти симфонию «По прочтении Данте» Листа и кантату «По прочтении псалма» Танеева. Общее в них — высокий философский строй «жанра», осмысление вечных проблем бытия. Особенное — в обращении Гаврилина к писателю-современнику, в чем выразилась дань благодарности художнику, творчество которого «дает большую моральную поддержку». Между двумя половинами подзаголовка возникает гигантское смысловое напряжение. Имя Шукшина вслед за высоким слогом «по прочтении» освещается новым светом, ибо композитор читает Шукшина как исследователя человеческих нравственных ценностей, философа, для которого, по его собственному признанию, «нравственность есть Правда». И в этой своей устремленности к правде, к постижению вечных вопросов бытия Шукшин выступает как наследник исконно русской традиции. «Древнерусскую литературу,— пишет Д. Лихачев, — можно рассматривать как литературу одной темы и одного сюжета. Этот сюжет — мировая история, а эта тема — смысл человеческой жизни. Литература стремится рассказать не о придуманном, а о реальном...»[4][ 4 Лихачев Д. С. Первые семьсот лет русской литературы // Изборник. — М., 1969. С. 9. 11]. Зрелого Шукшина, как и древнерусского книжника, волнуют история, судьба России, а потому творчество его также знает, перефразируя Д. Лихачева, один главный сюжет и одну главную тему. Этот сюжет — русский национальный характер на разных этапах истории народа; эта тема — «смысл человеческой жизни», вечная борьба добра и зла, размышление о том, как надо жить и как надо умирать. Известны слова, записанные Шукшиным незадолго до его кончины. Это — жизненное credo художника: «Не теряй свои нравственные ценности, где бы ты ни оказался... Русский народ за свою историю отобрал, сохранил, возвел в степень уважения такие человеческие качества, которые не подлежат пересмотру: человечность, трудолюбие, совестливость, доброту... Мы из всех исторических катастроф вынесли и сохранили в чистоте великий русский язык... Уверуй, что все было не зря: наши песни, наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, наши страдания — не отдай всего этого за понюх табаку... Мы умели жить. Помни это. Будь человеком»[5][5 Шукшин В. М. Вопросы к самому себе. — М., 1981. С. 219— 220. Далее ссылки на страницы этой книги даются в тексте статьи]. С ними перекликаются и слова В. Гаврилина: «Мне хочется, — говорил он о «Перезвонах», — раскрыть слушателям сокровищницу житейской мудрости, заключенной в произведениях народного творчества, привлечь внимание к таким важным моральным категориям, как верность, долг, совесть, честность и неподкупность... Верю, что о самом сложном и серьезном можно говорить просто и понятно, без упрощений»[6][6 Краюхин С. Самобытный талант / Известия. 1982. 31 янв.]. Именно этот сокровенный смысл, помноженный на изобретательность фантазии и искренность высказывания художника, раскрылся в «Перезвонах» и вызвал в жаждущих сердцах слушателей живой отклик. Вспоминается «Солярис» С. Лема. Далекая планета, материализовав по образцу и подобию живших в памяти землян дорогих и близких им людей, не сумела подделать роднившей их с землей и делавшей их настоящими людьми горячей человеческой крови. Так и искусство — при любых достоинствах и мастерстве отделки, при самых неожиданных отлетах фантазии или наоборот, удивительной похожести на нечто знакомое — действенно лишь тогда, когда в нем есть главное — живой ток человеческой крови, роднящей его с народом, землей, когда в нем бьется трепещущая душа и мысль художника, гражданина, мучительно постигающая этот мир. Эта подлинность свойственна художникам, имена которых соединились в «Перезвонах». Вот на какой основе прорастают высокий строй мыслей «Перезвонов», быт и Бытие одновременно. Критика верно подметила, что подзаголовок — ключ к образному миру «Перезвонов». Но не только. Как нам представляется, он одновременно ключ к названию и теме сочинения, образу главного героя. Он предопределяет жанр, композицию цикла. Сочинение обозначено автором как хоровая симфония-действо. По поводу столь необычного синтеза и составляющих его компонентов уже сделано немало точных наблюдений, что не мешает, однако, вернуться к этому вопросу. Напомним высказывание В. Гаврилина: «Шостакович называл симфонию царицей музыки. Но ведь только в последние полтора-два века инструментальные жанры стали доминирующими. Многие тысячелетия царствующим был голос, сольное и хоровое пение. И музыка сохранялась и переделывалась именно благодаря голосу — инструменту, который всегда с нами, при нас. Назвав «Перезвоны» симфонией-действом, я хотел подчеркнуть высоту хорового сочинения»[7][ 7 Гаврилин В. «Услышать музыку в душе...»]. Автор выделил древние хоровые истоки и симфонию как знак высоты жанра, в современной музыкальной культуре — высоты предельной. Определяется она, прежде всего, масштабностью и концепционностью, многосоставностью жанра, его поэтикой. В этом симфония сопоставима с романом «Нового времени», который, по мысли М. Бахтина, вобрал в себя множество «готовых», бытовых жанров. То же происходит и в «Перезвонах». Различие же в том, что хоровая симфония-действо, с одной стороны, восходит к древним синкретическим истокам искусства, с другой, — вбирает, прежде всего, черты вокально-хоровых жанров, причем на том их уровне, которого они достигли в современной музыкальной культуре, тяготеющей к взаимопроникновению академического и фольклорного направлений, диалогу концертных и театральных форм[8][8 Подробнее об этом см. в нашей брошюре «Хоровое искусство России 70-х годов». — М., 1982]. Вместе с тем, в «Перезвонах» — и это подчеркнуто словом «симфония» — представлены не сами бытовые жанры или сюита картин народной жизни, «прямые» (бытовые) жанры не просто переносятся в симфонию, но, по терминологии М. Бахтина, «изображаются» в ней. В такой ситуации составное обозначение жанра неизбежно, но каждое из определений высвечивает лишь какую-то одну грань жанрового синтеза. И это закономерно. Напомним, что М. Бахтин рассматривал литературный жанр как специфическую форму видения окружающего мира. Так и в музыке вокально-хоровые жанры «видят» мир совсем не так, как инструментальные, малые — иначе, чем монументальные. Жанр накладывает ограничение не на то, что отображает искусство, а на то, как оно это делает. История жанров — это история художественного видения, мышления и восприятия, и уже тем самым — история человека, познающего мир. Поэтому когда композитор пошел не от жанра, а от прочтения Шукшина, от правды, от противоречивой сложности жизни, захотел показать переплетение в ней конкретного и обобщенного, — он неизбежно пришел к соединению многих жанров[9][9 Обратим внимание, что характерная для русской литературы и драматургии ориентация на правду жизни всегда имела своим продолжением преодоление жанровой нормативности]. Это, в свою очередь, обеспечило ему высшую «жанровую свободу». Если же отвлечься от привычной музыкальной терминологии, то «Перезвоны» можно сравнить с древнерусской Книгой. И вот почему. Как известно, древнерусская литература знала множество жанров и жесткую «этикетность» норм. Новые произведения о событиях прошлого (поскольку «история не сочиняется») были комбинациями, сводами, новыми обработками старого. Широта охвата достигалась соединением нескольких жанров, включением одних в другие. К примеру, в летописи вводились исторические повести, жития святых, различные документы и послания. Сами произведения включались затем в циклы и своды. При такой направленности литературного творчества композиция для древнерусского читателя была самой важной. Оставаясь законченным целым, произведения Древней. Руси «не стоят особняком — в создаваемой ими картине мира они дополняют друг друга»[10][ 10 В цитируемой выше статье Д. Лихачева читаем: «Если вспомнить обширные рукописи, в состав которых входят все эти произведения, то мы отчетливо представим себе то чувство величия мира, которое стремились выразить древнерусские книжники во всей своей литературе...» (с. 12)]. В «Перезвонах» В. Гаврилин стремится единым взором охватить Вечность и Время, историю Руси и жизнь отдельного человека. Отсюда и сходство: единство и взаимодополняемость частей, законченность каждой и их связанность между собой, многообразие жанров отдельных номеров и высшая жанровая свобода целого. В отличие же от древнего книжника современный художник рассматривает историю и мир как «историю души» народной и мир души человеческой. Вечность и Время меняются местами. Там бренная человеческая жизнь на фоне неподвижной вечности, здесь — течение жизни, включившее фрагменты этой вечности: народные традиции, жанры, образы и приближающиеся к «простым законам нравственности» «вечные человеческие ценности». История и мир души человеческой предстали здесь и как громадная вселенная, и как «со-гласный» с хоровым звучанием целого отдельный звон. В этом видится внутреннее обоснование хорового начала, истинная традиционность и новаторство жанра. Художественное исследование мира человеческой души в «Перезвонах», как и в некоторых других произведениях В. Гаврилина, тяготеет к ретроспективной драматургии. Начинается действие с высшей, итоговой точки («Весело на душе», «Смерть разбойника»). Уже в этих первых двух частях слух завораживает непредсказуемость переходов от одного эпизода к другому, а центр внимания постепенно переносится на пристальное постижение сущности эпизодов. Причем, сюжет либо отходит на второй план, либо исчезает вовсе, что созвучно высказанному в последние годы Шукшиным: «Неодобрительно отношусь к сюжету... лично я старался рассказать про душу, а не про внешнюю биографию, внешние события» (о кинофильме «Печки-лавочки», с. 99). И даже в тех случаях, когда определенная сюжетная линия и сюжетные связи между номерами все же остаются, не они составляют главное. Теперь уже не симфонизм как последовательно-драматургическое развитие материала, но «анфиладный принцип» древнерусской литературы, когда масштабная форма образуется присоединением отдельных законченных частей-произведений, затем сливающихся в «общий эпос», — определяет пафос драматургии и композиции целого. Не изобретение остросюжетных хоров или необычных языковых средств, но устремленность к правде жизни, вживание в нее, познание, постижение ее сути, желание передать тончайшие оттенки и вибрации смыслов и движений, открытых в Книге Жизни, становится руководящей идеей творчества. Такую вот разломанную посередине Книгу Жизни и ставит перед нами В. Гаврилин в контрастной двухчастной композиции «Перезвонов». Обрамляющие номера — «Весело на душе» и «Дорога» (№ 1, 16) — подобны потемневшему переплету или заставке, где множество причудливых картин, эмблем и виньеток. Здесь еще царствует хаос мирозданья. Отдельная человеческая жизнь, как и потемневшая от времени Книга, еще не отделена от предшествующих и последующих, от многих других жизней. Однако уже положены ее пределы: Небо и Земля, Жизнь и Смерть, Добро и Зло. Между ними тянется Дорога. Следуя авторской интерпретации этого образа, человечество «вступает на путь жизни и идет по нему упрямо, с верой, с грехом, и каждого человека ожидает конец, но люди продолжают идти, дорога эта вечная, тяжкая, но почему-то необходимая». Главный сюжет — притча о смерти благородного разбойника — начнется с конца, на пороге смерти героя. По признанию В. Гаврилина, «Перезвоны» создавались «под большим впечатлением» от «Севастопольских рассказов» Толстого. В одном из них Толстой описывает образ солдата, погибающего во время атаки. В последние секунды он вспоминает всю жизнь"[11][11 Гаврилин В. «Услышать музыку в душе...»]. Мотив возвращения в памяти к детству, отчему дому довольно часто звучит и в прозе Шукшина. В «Слове о „малой родине"» он пишет: «Когда буду помирать, если буду в сознании, в последний момент успею подумать о матери, о детях и о родине, которая живет во мне. Дороже у меня ничего нет» (с. 66). Также, как и Шукшин, мог сказать о себе лирический герой «Перезвонов» в последний час своей жизни. А жизнь эта проста, как глядящее вдаль на заходящее солнце окошко крестьянской избы, распахнутые с восходом и притворенные с закатом две его схожие и различные половинки. Как начала и концы этой Жизни, как две равные створки перекликаются симметричные фрагменты «Перезвонов» («Смерть разбойника» и «Матка-река», № 2 и 14). Здесь сходятся воедино высшая «трагическая красота жизни» (В. Белов) и гармония композиции. Просты и еле приметны, как в куплетах народной песни, ненарочитые изменения звучащих в них слов: «С неба глянет солнце, сядет матушка за оконцем» (№ 2) — «В небе гаснет солнце, скрылась матушка за оконцем» (№ 14); «С неба спущено письмо, не прочитано оно, а когда прочтется, в небе матушка улыбнется» (№ 2) — «С неба спущено письмо, распечатано оно, никем не прочтется, к божьим ангелам возвернется» (№ 14). Гаврилин приходит здесь к шукшинскому «смещению акцентов» — «главное (главную мысль, радость, боль, сострадание) — не акцентировать, давать вровень с неглавным» (с. 252). Жизнь начата и кончена, и вся мудрость ее уложилась в сделанное людям добро, посаженное дерево, спетую песню, в немудренные поговорки, пословицы, считалки — одну притчу о жизни благородного разбойника. И в музыке Гаврилина все казалось бы так же просто, как могло быть в крестьянской жизни, но в профессиональном искусстве стало возможным после открытий Мусоргского, Стравинского, Свиридова, в литературе — после «деревенской прозы», после нелукавых перед собой прозрений Шукшина. Но судьба героя не просто жизнь и смерть где-нибудь в глухом тихом углу, но жизнь и смерть на дороге, в самой ее круговерти. С этого и начинается сама притча: «Ой, да схороните меня, братцы разбойнички, да между трех дорог, в перекресточке». Отсюда и лежащая на всем печать первозданного хаоса и многоликости. Поэтому так и напоминает разломанную надвое Книгу композиции «Перезвонов». В первой половине (№ 2—9) — Начало, Свет, Утро, Весна, Детство, Праздник; во второй (№ 10—15) — Ночь, Тьма, Зима, Старость, Смерть. Столь же контрастен и образ лирического героя — доброго заступничка и разбойника, странного шукшинского «чудика» «дурачка» и крепкого мужика, грубого и нежного одновременно. Таковы и два его лика, два его голоса — тенор и бас (чтец), возвышенный и приземленный, детский и взрослый, певучий и говорящий — полетный голос мечты и тяжелого мудрого знания. Есть у них и «общий знаменатель» — их «общая душа». Это — «дудочка». Ее негромкая песня-разговор, песня-плач печальна и проникновенна. Она как будто все время силится, но не может вырваться из своего бессловесного плена. Только в начале второй половины «Перезвонов» («Ночью», № 10) мы узнаем слова ее песни. Это — слова Матери. Они то ли сопровождают человека через всю его жизнь, то ли как слабеющий голос пунктиром намечают разорванные отдельными картинами-воспоминаниями последние ее мгновенья. В любом случае это — лейтмотив размышлений, воспоминаний человека: Скажи, скажи, голубчик, скажи, кудрявый чубчик, что ты поешь? Трижды звучит «Дудочка» (№ 3, 7, 15), вспоминая предвосхищая три вопроса. На три главных вопроса и пытается ответить человек на пороге смерти, предъявляя как единственную свою драгоценность и оправдание всю прожитую им жизнь. Родина, Душа и Совесть — главные источники красоты, правды и добра, три главные нити, связывающие человека с его народом. Будь герой «Перезвонов» писателем, он, верно, сказал бы: «Всю жизнь мою несу родину в душе, люблю ее, жив ею, она придает мне силы, когда случается трудно и горько. Красота ее, ясность ее поднебесная редкая на земле... Дело, наверное в том, что дает родина — каждому из нас — в дорогу... Я запомнил образ жизни русского крестьянства, нравственный уклад этой жизни, более того, у меня с годами окрепло убеждение, что он, этот уклад, прекрасен, начиная с языка, с жилья» (с. 66—67). Олицетворением этой красоты становится для человека его самая «малая родина», его Мать. Она незримо сопровождает его через всю жизнь, через все его «перезвоны». Образ ее предельно обобщен и для каждого конкретен. Он мельчайшее звено и символ связи человека с народом, родиной и природой. Различны и едины лики Матери в «Перезвонах», ведь един и корень («род»), объединяющий три эти слова. Первый лик — «Мать-небесная», воплощение света и доброты, той реальной земной веры, что ведет и хранит человека в его нелегком пути (№ 2, 14). Второй лик — реальная мать в беседе с сыном («Ночью», № 10). Как в жутком сне этому образу противопоставлен агрессивный образ Страшенной бабы (№ 11) со сворой нечистой силы. И хотя в этом номере борьба добра и зла (в отличие, скажем, от исповедальной «Молитвы», № 13) постепенно переводится в сказочно-юмористический план и уподобляется детской игре, Страшенная баба запечатлевается в нашей памяти не просто как Баба Яга из старинных сказок и отнюдь не как добрая чудаковатая старушка в современных ее интерпретациях, но как обобщенный образ зла наступательного, человеконенавистной воительницы. По-видимому, отнюдь не случайно здесь возникают отчетливые аллюзии «Полета валькирий» Вагнера. Третий лик — стихийная и могучая «Матка-река» (№ 14), передающая из поколения в поколение негасимый «свет жизни» (А. Платонов). И над всем царит великий охранительный дух материнства. Вспомним и дудочку, которая рождена природой, сотворена человеком и звучит голосом матери. Теперь она — совестливая, добрая, поющая душа сына. Так кто же он этот лирический герой «Перезвонов», соединивший в себе столь контрастные свойства? В нем, по признанию В. Гаврилина, «...перемешалось впечатление от творчества Шукшина с тем, что я знаю о живой личности писателя, этом могучем русском характере, от моих бесед с М. Ульяновым, о том, что такое народный герой и как складывается взаимоотношение между героем и народом» [12][12 Гаврилин В. «Услышать музыку в душе...» // Лит. газета 1985. 24 апр.]. Попробуем разобраться в сказанном. Как известно, в основу «Перезвонов» легли мотивы двух поздних, но, казалось бы, совершенно различных произведений Шукшина — исторического киноромана «Я пришел дать вам волю» и повести «До третьих петухов» с подзаголовком «Сказка про Ивана-дурака, как он ходил за тридевять земель набираться ума-разума». От первого — сложный, противоречивый характер — одновременно сильный и нежный. О нем в романе: «весь он, крутой, гордый, даже самонадеянный, несговорчивый, порой жестокий, — в таком-то жила в нем мягкая, добрая душа, которая могла жалеть и сострадать». От второго — Иван-дурак, его дудочка, крики петуха, страшенная Баба Яга. Но действительно ли так уж и различны они? Ведь, во-первых, очевидно, что это не столько разные типы, но скорее разные возрасты души человеческой, разные ее ипостаси. Во-вторых, и в том, и в другом неистребимо живет столь любимая писателем идея Праздника[13][13 Белая Г. Художественный мир современной прозы. — М., 1983. С. 118]. В-третьих, оба они народны. Народность характера и судьбы Разина не требует комментариев, но и все «чудаки» Шукшина ассоциируются с коренным, исстари идущим типом «дурака» из балагана, сказок, райка, а Иван-дурак из повести прямой их наследник. Да и сам Разин у Шукшина — «такого дурака иногда валял». Главное же в том, как сам писатель воспринимал своих «дурачков»: «Есть на Руси еще один тип человека, в котором время, правда времени, вопиет так же неистово, как в гении, так же нетерпеливо, как в талантливом, так же потаенно и неистребимо, как в мыслящем и умном... Человек этот — дурачок, в котором наиболее выразительно живет его время» (с. 54). «Перезвоны» как хоровое действо — тема самостоятельная, но есть в ней один аспект, имеющий непосредственное отношение к нашему разговору. Связан он с общим для Шукшина и Гаврилина умением средствами одного только своего искусства вызывать в воображении читателей и слушателей всю полноту переживания действительности. Идущее от полноты и правды жизни, оно, аппелируя к памяти слушателей, как бы вновь возвращает их к этой правде и полноте. «У Шукшина описания почти отсутствуют, даже портретные; так, бросит одну деталь, но речь персонажа так выразительна, что человек живет и виден. И суть... в каком-то волшебстве диалога — люди обмениваются малозначительными фразами... а за фразами, скорее словами, видишь человека, характер»[14][14 Макаров А. Критик и писатель. — М., 1974. С. 254]. В связи с этим исследователи пишут о созданной им своеобразной «словесно-зрелищной форме». Перефразируя сказанное о Шукшине, можно отметить, что в сочинениях Гаврилина «словесно- и музыкально-выраженная часть» — это только верхняя, выступающая часть айсберга. Большая — в неизведанных пучинах человеческой памяти, которая, действуя подобно изменяющемуся фокусу объектива, непрестанно смыкает и расслаивает близкие и дальние, верхние красочные и внутренние сущностные сферы. Отдельное проникается всеобщим, временное — вечным, конкретное — символичным. Вот почему мы назвали «Перезвоны» Гаврилина притчей, которая, по определению Д. Лихачева, есть «как бы образная формулировка законов истории». В ее пространстве «Вечер» (№ 8), «Ночью» (№ 10) и «Белы-белы снеги» (№ 12) уже не хронологические подробности бытописательного сюжета, но, как и в природе, глобальные вехи человеческого бытия. Пламя свечи как свет жизни (№ 14), отраженное зеркалами веков, мерцая и теплясь вбирает символику языческих погребальных обрядов, образность Ипатьевской летописи и «Анны Карениной». Пенье петуха (№ 10, 14), проклюнувшееся, по-видимому, из повести Шукшина, из лукавой выходки, звукоподражательной «ерунды», возвышается до библейски-евангельских и русских сказочных параллелей. Вырезанная из тростника и одухотворенная человеческим дыханием дудочка (№ 3, 7, 15) говорит и думает по-людски, но помнит шуршанье ветра и посвист птиц, голоса сказок и сметливые пальцы Ивана-дурака. Многочисленные в сочинении звоны колоколов, курантов и колокольчиков знают историю страны и «звонкие судьбы», праздники и войны, Дорогу и Дом, высокую колокольню, изгнание, лишение языка, вершины русской художественной и публицистической литературы, искусства, музыки. Рядом с этими символами реалий повседневной жизни — ярмарка, площадь, околица и деревенская изба, пластический жест танца и изысканный орнамент народного костюма, — они тоже хранятся в памяти человека. Об особой зримости музыкальных образов В. Гаврилина критика писала неоднократно. Не раз цитировались и авторские слова: «Когда я пишу, я представляю людей, картины». Сказанное в полной мере относится и к «Перезвонам». Вспомним, сочинение написано для Московского камерного хора и посвящено художественному руководителю коллектива В. Минину. В «Перезвонах» реализовалась мечта композитора: «Где-то, в перспективе, чудится хор-театр, рождение новых жанров и форм хорового музицирования»[15][15 Гаврилин В. Таинство мудрой гармонии // Сов. Россия, 1982. 6 сент.]. Элементы хорового театра (изменения расстановки хора, его функций и т. д.) занимают в сочинении заметное место. Хотя склонность к театрализации видится скорее не во внешних моментах, а в самом музыкальном языке В. Гаврилина, его удивительной способности с помощью незамысловатых интонаций, бытовых жанров (частушка «под язык», припевки, вальс, кадриль и т. д.), то есть на основе повседневной музыкальной речи подниматься до обобщений огромной силы и одновременно достигать тонкого психологизма. В этом отношении наш современник выступает как достойный наследник Шуберта и Малера, Чехова и Шукшина. В то же время сама опора на жанр моментально включает многообразный, и не только музыкальный, жизненный опыт слушателей, в том числе и их зрительные ассоциации. Именно поэтому можно говорить о наличии в «Перезвонах» адекватной жанру хоровой симфонии-действа «словесно-музыкально-зрелищной» или иногда «музыкально-зрелищной формы». Вырастает она не из механического сцепления различных жанров, но коренится в поэтике самого сочинения. И здесь в музыке Гаврилин достигает того же эффекта, что и Шукшин в слове. Поэтому театральность «Перезвонов» отнюдь не внешняя — перестановки хора, пространственные эффекты, включение зала как «пространства соучастия», «описание» героев и места действия, но внутренняя, обусловленная многослойностью драматургии, диалогичностью музыкальной речи. В ней отчетливо различимы: авторская интонация, речь героя и враждебных ему сил, его воспоминания и размышления, отдельные проникающие в партитуру звуки самой жизни. Сложность возникающих при этом исполнительских задач и их близость эстетике Московского камерного хора — очевидны[16][16 Напомним, прежде всего, об ориентации коллектива на раскрытие игрового начала, где слово не только звук и фонема, но стоящие за ним образы мира, характеры, подтекст. Оно наделено здесь внутренним напряжением, оно — диалогично. Как в исконно народной манере, оно целомудренно и сокрыто. Поэтому происходящее на сцене уже не столько исполнение «на показ», но обнаружение живущего своей сокровенной жизнью, богатого внутреннего мира человека]. Остановимся на трех внешне непритязательных номерах первой части «Перезвонов». В «Посиделках» (№ 5) бесконечно, как веретено, вьется ниточка ostinato альтов, чем-то напоминающее знаменитую «Маргариту за прялкой». На его фоне девушки поют частушку о разлуке, об измене милого. С неба звездочка упала и другая упадет. Все как в жизни — небо, звездочка, а рядом земные страдания, ласковое «дроля» и уничижительное «дура». В паузы между куплетами подают свои реплики сердечные тенора. Казалось бы — чисто жанровая зарисовка. Материал, из которого она соткана, прост и неприхотлив, но сколь красочна, многопланова и, несмотря на невеселый сюжет, добра и ласкова ее интонация. Что это — внутреннее состояние героев или отношение к ним композитора? А может быть ностальгия по безвозвратно утраченной прекрасной народной традиции? Как у Шукшина: «К концу войны... вечерки стали разгонять... Что-то убили с вечерками... Зря покалечили народное творчество в этом деле. Обычай не придумаешь, это невозможно» (с. 36). Отсюда и многозначность этой внешне незамысловатой сценки, где одновременно и светлое воспоминание лирического героя, и внутреннее состояние поющих, и столь тривиальный сюжет частушки, и просторечивые характеристики покинутой, но не теряющей собственного достоинства и юмора девушки, и ее вероломного, но все же любимого «дролечки», и отношение к ним автора, как бы говорящего слушателям: «Смотрите, как это прекрасно». И действительно, все это видишь, хотя на сцене почти ничего не происходит, разве что девушки сидят полукругом в центре сцены, а не стоят по хоровым партиям, как это принято в концерте. Все вместе и создает словесно-музыкально-зрелищную форму. Не менее ярки и картинны, хотя и практически бессловесны, две следующие сценки. В «Ти-ри-ри» (№ 6) разыгрывается большой «кинематографический» эпизод. Молодежь собирается на танцы. Поочередное вступление голосов, подобно камере, выхватывает крупным планом отдельные группы «действующих» лиц. Вот, молодцевато шаркая по полу, появляются басы. Порученная им единственная в этом номере и многократно повторенная фраза: «Туды, сюды, сюды, туды. Туды, сюды, сюды, отсюды» рисует одновременно и неприступность, и походку, и «глубокомысленность» героев. На их фоне выступают лирически-нежные тенора. Как натянутые струны или серебристые колокольчики, подают свои реплики нетерпеливо ожидающие приглашения на танец девушки — сопрано. Последними в кадр попадают оставшиеся в своем углу, обиженные альты. Затем суматоха, сплетни, пересуды. И вновь, как ни в чем не бывало, реплика басов: «Туды, сюды, сюды, туды». Не выходя за рамки простой танцевальной фактуры, композитор каждую партию наделяет яркой индивидуальной мелодико-пластической характеристикой. Можно даже говорить о наличии контрастной полифонии, но понятой не в традиционной музыкальной, а в «музыкально-зрелищной» форме. Ритмомелодическая формула жанра подобна «словесным клише» (Г. Белая) у Шукшина, где она является одновременно и самой характеристикой, и фоном, сквозь который как примета живых людей проступает «осердечненная» лексика. И вот, наконец, «Вечер» (или «Вечерняя музыка», № 8). Он возникает после «Дудочки» (№ 7) как воспоминание героя. Композитор воссоздает реальную и одновременно загадочную, поэтичную картину. Удивительный мир вечерних сумерек, чуть скрадывающих очертания окружающих предметов, — с ожиданием, истомой, неясными возникающими и исчезающими мотивами, с доносящимся издалека то ли шепотом леса, то ли пением русалок. Что-то слышится в этой звучащей тишине томительное и певучее, что-то незаметно отрывает тебя от земли, но нет этому названия, и нет слов, чтобы выразить эту внезапно открывшуюся сердцу красоту. Интонации здесь довольно просты — страдания, заклички, лирический романс, но как и очертания предметов в вечерних сумерках, как кроны деревьев в ложбинах, то явственно проступающие, то вновь растворяющиеся в густом тумане, — поданы они сквозь волшебно-неуловимый флер хорового звучания, окутаны прозрачно-сладким и прохладно-густым вечерним воздухом. Как будто именно об этом в романе Шукшина «Я пришел дать вам волю»: «И вспомнилась почему-то другая ночь, далекая-далекая. Тоже было начало осени... И тоже было тепло... солнышко село, и темень прилегла на воду. Не хотелось идти домой. Сидели, слушали тишину. И наступил, видно, тот редкий, тоже и дорогой дар юности, который однажды переживают все в счастливую пору: сердце как-то вдруг сладко замрет, и некий беспричинный восторг захочет поднять зеленого еще человечка в полный рост, и человек ясно поймет: я есть в этом мире!» Осознание этого самого великого человеческого открытия красной нитью проходит сквозь все сочинение. Что же такое эти многозначные и переливчатые «Перезвоны», само название которых наполнено столь многими смысловыми обертонами? «Перезвоны», и на это обращала внимание в первую очередь критика, ведут свою родословную от древней традиции колокольности в русской культуре и музыке. Ведь колокола, куранты, набаты, колокольчики и даже музыкальные табакерки — звучащие быт и бытие, измеренное время, Музыка, празднично-буднично-трагическая симфония народной жизни. Далеко окрест несся по Руси колокольный звон. Весну и Осень, Спас и Благовест, Вечерни и Утрени, войны и перемирия, голод и наводнения возвещал людям вещий голос колоколов. В светлые праздники он радовал душу красотой малиновых звонов, в мрачные — обжигал ее леденящим предчувствием. Именно такие колокола обрамляют роман «Я пришел дать вам волю». «Тяжко бухали по морозцу стылые колокола. Вздрагивала, качалась тишина; пугались воробьи на дорогах. Над полями белыми, над сугробами плыли торжественные скорбные звуки, ниспосланные людям людьми же... Над холмами терпеливыми, над жильем гудела литая медная музыка, столь же прекрасная, тревожная, сколь и привычная». И в финале: «Гулко, зевласто охнул колокол... Еще и еще били в большой колокол. И зык его — густой, тяжкий — низко плыл над головами людей...». Всякий, слышавший эти звуки, замирал, отрешался от обыденных забот, ибо звук колокола — это знак События, которое, расщепившись на множество близких и далеких звонов, превращалось затем в одно общее коллективное «со-бытие». Другие смачно-бренькающие перезвоны, как дойные коровы, привязаны к крестьянскому дому. Они обозначают ту часть земли, где на всю жизнь запомнился вкус парного молока и душно-сытной краюхи хлеба, «особый, в высшей степени дорогой мир» (В. Шукшин) детства, где все сливается в теплое, родное, материнское. Здесь, радуя и пугая, наравне с солнцем и тишиной, рождаются и живут сказки и присказки, усвоенные на всю жизнь заветы доброты, честности и скромности. Мир этот дарит ощущение праздника и радости. О нем тоскуешь всю жизнь, к нему безнадежно стремишься через все испытания. Отсюда берет начало дорога вдаль, в будущее, которое незаметно становится прошлым и, как вся прошедшая жизнь, умещается в одной короткой, как выдох, мудрости-поговорке. Из светлого края детства струит свои вечные воды Река Жизни. С Дорогой связан другой перезвон. Мечется по земле чья-то неспокойная судьба, летят весточки-звоны. Колокольчик под дугой в этой всеобщей симфонии жизни отмечает движение отдельного человека. И все эти перезвоны — знаки Событий, Дома, Дороги — то сливаются в один грандиозный символический звон несущейся вдаль Птицы-Тройки, то вновь рассыпаются в отдельных звуках. У каждой судьбы свой голос, свой «звон». Один слышен далеко, другой гаснет, не успев родиться. Но есть судьбы, голос-колокол которых остается навечно в истории страны, народа, впитывает многие другие звоны. С «Перезвонами» ассоциируются и вехи человеческой жизни: звоны свадебные, погребальные (вспоминаются «Колокола» Рахманинова). Авторская ориентация на жизнь, на образцы устного народного творчества, а не на профессиональную письменную традицию — также, образно говоря, «перезвоны», особенно если вспомнить формулу Тредиаковского: «писать по звону (звуку), а не по букве». В самом названии симфонии-действа резонируют множественность, продолжительность, гармония, а тем самым звуковой символ человеческой отзывчивости, со-чувствия, со-гласия, со-единения — синоним традиционного для самых глубинных проявлений национальной культуры коллективного хорового начала. Есть, наконец, и грань, где название — «Перезвоны» — сходится с подзаголовком — «по прочтении,— где «перезвоны» акцентируют преемственность. Особенно очевидно это в философски возвышенной «Молитве» (№ 13). Здесь царство отрешенной от бренного мира возвышенной духовности. Она словесно, жанрово, исполнительски контрастирует и с предшествующими и с последующими номерами сосредоточенностью мысли и господством сказанного Слова. Неожиданно здесь включение текста из «Поучения» Владимира Мономаха: «Зачем печалишься, душа моя? Зачем смущаешь меня?» Как объяснить столь неожиданную, на первый взгляд, вставку? По-видимому, для этого необходимо вспомнить, что согласно традиции древнерусской литературы мысли самого автора соседствуют в ней с цитатами из древних книг, описание событий — с моментами автобиографическими, размышления о высоком и божественном — с наставлением малым детям. «Поучение» Владимира Мономаха возникло по прочтении Псалма. «По прочтении» произведений русской литературы рождаются и некоторые произведения В. Шукшина («Забуксовал», «До третьих петухов» и другие). Как их музыкально-поэтический отзвук строится и сочинение В. Гаврилина. Тогда «по прочтении» и «перезвоны» — синонимы памяти, традиции и преемственности, синонимы нескончаемого пути жизни. Не случайно, как и у Шукшина, малый или большой («звенит где-то крохотная мушка» — «Земляки» или «где-то робко ударил колокол» — «На кладбище») — любой звон сопутствует движению, жизни, сопутствует осознанию того, что «я есть в мире!» Разговор о «Перезвонах» В. Гаврилина хочется закончить словами В. Шукшина о той мудрой власти красоты, которую имеет над человеческими душами простая и близкая людям музыка: «Сидели некоторое время, подавленные чувством, которое вызвала песня. Грустно стало, не грустно, а — редкая это, глубокая минута: вдруг озарится человеческое сердце духом ясным, нездешним — любовь ли его коснется, красота ли земная, или охватит тоска по милой родине — и опечалится в немоте человек. Нет, она всегда грустна, эта минута, потому что непостижима и прекрасна» [17][Шукшин В. Я пришел дать вам волю. – М., 1984. – С. 34.]. |