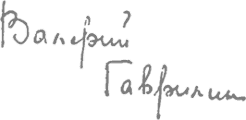 |
||
|
|
||
 |
||
|
Галушко М. |
М. Галушко. Краткие заметки о телефильме-балете «Анюта» на музыку Валерия Гаврилина[1] [1 Киностудия «Ленфильм» (1982), сценарий Александра Белинского, режиссеры Владимир Васильев и Генрих Маранджян, оркестр Ленинградской государственной филармонии под управлением Станислава Горковенко. Исполнители главных ролей: Анюта — Е. Максимова, отец Анюты — В. Васильев, Артынов — Дж. Марковский, Модест Алексеевич — Г. Абайдулов. На X Всесоюзном Телефестивале в Алма-Ате (1983) фильм-балет «Анюта» был удостоен Золотого приза] мне хотелось бы начать одним соображением общего порядка. Некогда Герман Аберт, говоря об опере романтического периода, назвал ее «литературной» (Literaturoper) — в отличие от «музыкальной» оперы предшествующей поры[2][2 См.: Abert, H. Grundprobleme der Operngeschrichte. Bericht Ober den musikwissenschaftlichen Kongrefi in Basel. Lpz., 1925, S. 22—35]. Обосновывая термин «литературная» опера, ученый имел в виду всемерное расширение сферы, общей для поэтического и музыкального искусств, их движение навстречу друг другу. Вероятно, удачное определение Г. Аберта в наше время вполне может быть спроецировано на область балетного жанра. Последние два-три десятилетия приносят неизменные свидетельства все более настойчивого обращения композиторов и хореографов к сфере высокой поэзии, драматургии, прозы. Балет из «музыкального» превращается в «литературный». Явление это — давно замеченное, получившее уже своих исследователей[3] [3 См., например, диссертацию Я. Е. Островской «Советские балеты 50—70-х годов на сюжеты русской литературной классики». — Л., 1983] и вряд ли стоило бы вновь к нему возвращаться с целью простой констатации. Принципиально необходимо подчеркнуть следующее: в своем развитии «литературный» балет совершает весьма примечательную эволюцию: от преобладания иллюстративности — к психологизму, от театра представления, зрелища — к театру переживания, «театру чувств». Отсюда и выбор исходных жанров: от сказки — к эпосу, и, наконец, к роману. Показательно в данном смысле балетное творчество Р. Щедрина, которое отражает в онтогенезе (в индивидуальном авторском развитии) тенденцию филогенеза (развития жанра вообще). Триада «Конек-Горбунок», «Анна Каренина», «Чайка» может быть названа своего рода моделью становления «литературного» балета в плане обращения к характерной сюжетике (от сказки-притчи — к роману и психологической драме). Становление «литературного» балета выдвинуло множество новых проблем анализа, связанных с переведением литературных образов в музыкальные и далее в хореографические, с сопряжением звукового и визуального рядов. Особую область представляет собою сфера жанрового обобщения, широкое развитие получившая в данных балетах. Все эти вопросы так или иначе должны возникать и возникают при исследовании «литературных» балетов. Но вернемся к «Анюте» и напомним: предмет нашего внимания — не просто балет сам по себе, а его особый вариант, телефильм-балет, который, по сути, является феноменом совершенно непознанным и принципиально новым по типу синтеза искусств, в него входящих. Создавать теорию данного жанра было бы, очевидно, преждевременно: все виды действ с приставкой «теле-» еще не обрели прав гражданства в системе драматических искусств[1] [1 См., к примеру, один из вариантов классификации, предложенный в кн.: Фролов В. Судьбы жанров драматургии. — М., 1979, о. 403, где изобилие перечисленных типов телеспектаклей заставляет усомниться в наличии четкого систематизирующего признака], и исследование их есть, по-видимому, дело будущего. Тем более рано писать историю жанра — она весьма и весьма коротка. Своеобразным подступом, прелюдией к возникновению телефильма-балета послужила «Фантазия» А. Эфроса (с участием М. Плисецкой), а едва ли не единственной прямой предшественницей «Анюты» стала «Галатея» режиссера А. Белинского. Уже самые первые газетные и журнальные отклики на появление «Анюты» обнаружили всю сложность анализа жанровой природы этого произведения. Его называли «значительным и новаторским для кинематографа»[1][1 Трауберг Л. Балет и кино. — Сов. культура, 1982, 1 июня, с. 6], «почти неизведанным родом искусства, в котором естественно и нерасторжимо соединяются законы хореографии и кино»[2][2 См. ст. Б. Львова-Анохина в «Музыкальной жизни» № 16, 1982]. Показательно при этом, что роль музыки в музыкальном фильме оценивается бегло, чисто описательно; в лучшем случае констатируется, что «режиссер и хореограф выстраивают зрительный ряд в согласии с данным звуковым рядом»[3][ 3 Луцкая Е. По-чеховски.—Театральная жизнь, 1982, № 17] (хотя, заметим сразу, «согласие» здесь далеко не всегда является единственным методом сопряжения визуального и музыкального рядов, впрочем, как и в любом ином музыкально-театральном жанре). Цитированные высказывания еще раз доказывают ту непреложную истину, что жанр синтетический требует адекватного своего постижения и что неизбежная разобщенность, ограниченность наших искусствоведческих профессий в значительной степени этому препятствует. Очевидно, в идеале, при создании некоего «синтетического» метода анализа потребуются коллективные усилия нескольких исследователей. Пока же, нисколько не претендуя даже на приблизительное решение данной задачи, попытаемся выяснить роль музыки в художественной концепции телефильма-балета «Анюта». Начнем по традиции с рассмотрения литературного первоисточника, положенного в основу спектакля, с рассказа «Анна на шее» (1895). Прежде всего, примечательно и в высшей степени симптоматично переименование, предложенное авторами фильма. Поначалу оно может вызвать известное недоумение, если не вдуматься глубже в поэтику женских имен у Чехова. Имя Анна («сладчайшее для уст людских и слуха» — А. Ахматова) в рассказах Чехова одно из самых распространенных, можно сказать излюбленное. Анна Сергеевна в «Даме с собачкой», героиня рассказа «О любви»; Анюта Благово из повести «Моя жизнь» — образ провозвестницы прекрасного будущего... Наконец название фильма вплотную перекликается и провоцирует ассоциации с совершенно иным, ранним чеховским рассказом 1886 года. Сюжет этой «Анюты» — повествование о личности, жертвенно отрекающейся от самой себя, дабы служить пособием по анатомии для студента-медика или в качестве модели для начинающего художника. Предвосхищая в чем-то «Душечку», «Анюта» лишена вместе с тем той искупительной, катарсической ноты, что звучит в финальном эпизоде более поздней новеллы. Итак, уже в самом названии фильма заявлен принцип собирательности: здесь совершается смысловая модуляция, переход от конкретного образа героини «Анны на шее» к общему мотиву поругания женской души, эксплуатируемой, продаваемой и предаваемой. Принцип собирательности обнаружится, как увидим далее, и в других элементах художественной системы фильма-балета: собирательны здесь и иные мотивы (детства, семьи, времени и т. д.), образы персонажей, обстановка действия. И именно музыке суждено при этом сыграть роль важнейшего объединяющего, интегрирующего фактора. Только она может стать выражением того особого «миросостояния», которое является нервом чеховского стиля, его доминантой. Только музыка способна послужить некой равнодействующей в сложном, напряженном столкновении различных характеров, устремлений, настроений. Но прежде чем коснуться разговора о переведении чеховской прозы в план музыкальный у Гаврилина, сделаем несколько предварительных замечаний. Музыкальность творчества Чехова — проблема многоаспектная, неоднократно привлекавшая внимание исследователей[1][1 См.: Эйгес И. Музыка в жизни и творчестве Чехова. — М., 1953; Кремлев Ю. Чехов и музыка. — В кн.: Избранные статьи. Л., 1976; Балабанович Е. Чехов и Чайковский. — М, 1978]. Проблема эта решается на различных уровнях — и по отношению к частным сочинениям, и применительно ко всей системе чеховской поэтики. Так, рассказ «На пути» Н. Я. Берковский называет «музыкальным по мысли», а в «Черном монахе» некоторые литературоведы усматривают проявление принципов сонатной формы. В драмах писателя музыкальность обнаруживается через характеристическую функцию «звучащих пауз», через особую роль темпоритма (эволюционирующего от стремительного, залихватского движения в ранних водевилях к томительно длящемуся, замедленному, приостановленному течению времени в драмах). Б. В. Асафьев писал о влиянии на Чехова «театрального симфонизма», оперной драматургии Чайковского, называя ее непосредственной предшественницей чеховской лирической драматургии[2][2 Асафьев Б. Композитор-драматург П. И. Чайковский. — В кн.: Избранные труды. М., 1954, т. 2, с. 61]. Здесь параллели могут быть проведены по многим направлениям; укажем лишь на одну из них, для нас существенную. И в «Евгении Онегине», и во всех поздних пьесах Чехова особую роль играет поэтизация быта — в первую очередь, усадебного. Правда, у Чехова этот быт неизбежно подвержен умиранию, изживанию, распаду — в результате столкновения с миром города, с нравом и бытом столичным (ср. аналогичное противостояние данных сфер в «Онегине»). Но как бы то ни было, у обоих художников сфера быта несет в себе огромный заряд поэтичности. Отсюда у Чайковского — необычайное возвышение «низких» жанров, их облагораживание, сентиментализация, насыщение духовностью. В этом смысле музыка В. Гаврилина впрямую наследует принципы Чайковского: среди современных советских композиторов вряд ли найдется еще один столь же истовый приверженец и убежденный поборник «низких», «вульгарных» жанров, последовательно и неотступно воплощающий их в своем искусстве. Но не только от традиции Чайковского отталкивается в музыке «Анюты» В. Гаврилин: в трактовке бытового, обыденного он исходит и из чисто чеховского постижения данной образной сферы. Как известно, отношение писателя к быту не было однозначным. У Чехова оно амбивалентно: наравне с мотивом поэтизации, рядом «с музыкой повседневного течения жизни» (Н. Я. Берковский) в рассказах и драмах неизменно звучит мотив гибельности, враждебности обыденного существования, разъедающего и растлевающего душу человека. Эта двойственная природа чеховского бытописания как нельзя лучше передана в характере музыки В. Гаврилина. Уже в самых первых тактах партитуры, в звучании «вальса с фальшивизмами» есть известная надтреснутость, затаенная невысказанная тоска и меланхолия — тем самым в сугубо бытовой жанр сразу же вносится элемент остранения. Жанр перестает играть функцию исключительно иллюстративную, подымаясь до уровня характеристичности, до выражения сложной образной полифонии. К сожалению, в нашем музыкознании почти не разработана теория бытовых (или в употребительной немецкой терминологии — «тривиальных») жанров; теория, которая рассматривала бы их в аспекте исторического становления, выразительных возможностей, в аспекте их функционирования в контексте различных художественных систем и индивидуальных творческих стилей. Сочинения, подобные гаврилинской «Анюте», заставляют обо всем этом задуматься. Действительно, в музыке фильма-балета перед нами предстает звуковая картина эпохи с почти максимальной, исчерпывающей полнотой. Здесь и целая «танцевальная энциклопедия» (вальс, галоп, полонез, тарантелла, полька), и гром военных оркестров (марш), и заунывно-надрывный голос шарманки, и уютное домашнее музицирование, и колокольность, и бой часов. За каждой из этих звуковых сфер встает целая цепь ассоциаций, рождаемых «памятью жанра»; каждый конкретный жанровый образ наделяется большой обобщающей силой. Вот, например, сфера колокольных, звонных звучаний: в ней сконцентрирована огромная эстетическая и слуховая информация, в ней предстает та разветвленная область колокольности, что простирается в русской музыке от искусства соборных звонарей к сложной символике «Колоколов» Рахманинова. Таким образом, бытовой жанр возникает у В. Гаврилина не как первичный и даже не как вторичный (термины Л. А. Мазеля), а как восхождение к первичному жанру через знание, опыт вторичного. Нечто подобное происходит и в отношении сферы домашнего музицирования: оно здесь служит и характеристикой конкретных персонажей (братья-гимназисты), и — в своем очищенном, сублимированном виде — «работает» на раскрытие мелодраматической линии действия: любовные дуэты Анюты и Студента[1][1 Этот отсутствующий в рассказе образ введен в телефильм в связи со стремлением выявить типично «балетный» характер конфликта, но выглядит он все же не слишком органично] сопровождаются музыкой, сродни «Осенней песни» из «Времен года» Чайковского. За этим звуковым образом — также длинная вереница ассоциаций, большая и цепкая «память жанра». Каждая бытовая модель раскрывается у В. Гаврилина на нескольких уровнях, ибо выполняет ряд различных семантических функций: чисто иллюстративную, характеристическую, собирательную, перетолковывающую. Но значение любого образа полнее и ярче всего обнаруживается в контексте целого, где сюжетные, тематические линии, переплетаясь, дают в итоге сложную полифонию смыслов. Для того, чтобы проследить это подробнее, необходимо сравнить вначале конструкцию чеховского рассказа с построением музыкальной формы у В. Гаврилина. Быть может, более других новелл Чехова «Анна на шее» чрезвычайно насыщена музыкой в ее реальном, весьма осязаемом звучании. Эпизоды, несущие в себе звуки музыки, многочисленны в рассказе и занимают в нем (пространственно) значительное место. Но, естественно, внешне иллюстративной функцией музыкальных эпизодов не ограничивается их значение для повествования: в «Анне на шее» музыка служит самостоятельным и очень важным смысловым пластом, который подчинен принципам активного и сложного развития. Уже в самом начале, буквально со второй фразы, вторгается столь существенный у Чехова мотив задушенного, раздавленного, убитого буднями праздника[1][1 Об этом см. подробнее в исследовании Б. И. Зингермана «Водевили Чехова» (в кн.: Очерки истории драмы XX века. — М., 1979, с. 63 и далее)]. И мотив этот звучит тем более угрожающе и неожиданно, что сопровождает он картину венчания. «Вместо веселого свадебного бала и ужина, вместо музыки и танцев — поездка на богомолье за двести верст...» Здесь — моментальное крушение праздника, мгновенный смысловой эллипсис (ведь музыка, танцы — неотъемлемые атрибуты свадебного веселья, и само их исчезновение, подмена выглядят странно и настраивают на недоброе). Все дальнейшее движение «музыкальной» темы в рассказе есть ее постепенное освобождение, раскрепощение, стремительное стрелообразное движение к кульминации в финале: «...Она уже поняла, что она создана исключительно для этой шумной, блестящей, смеющейся жизни с музыкой, танцами, поклонниками, и давнишний страх ее перед силой, которая надвигается и грозит задавить, казался ей смешным». При этом обращает на себя внимание, что та музыка, которая звучит дома, в тесном пространстве интерьера, связывается с ощущением несвободы, не создает чувства праздничности. «Когда Модест Алексеевич уходил на службу, Аня играла на рояле или плакала от скуки, или ложилась на кушетку и читала романы и рассматривала модный журнал»... Отец «играл на фисгармонии, которая шипела и рычала»... Только на открытом воздухе, в блестящих бальных апартаментах музыка звучит в единстве с мотивом праздника, света, радости жизни. «...Послышалась вдруг музыка, ворвавшаяся в окно вместе с шумом голосов. Это поезд остановился на полустанке. За платформой в толпе бойко играли на гармонике и на дешевой визгливой скрипке, а из-за высоких берез и тополей, из-за дач, залитых лунным светом, доносились звуки военного оркестра: должно быть, на дачах был танцевальный вечер»... «Когда Аня, идя вверх по лестнице под руку с мужем, услышала музыку и увидала в громадном зеркале всю себя, освещенную множеством огней, то в душе ее проснулась радость и то самое предчувствие счастья, какое испытала она в лунный вечер на полустанке»... «В большом зале уже гремел оркестр и начались танцы. После казенной квартиры, охваченная впечатлением света, пестроты, музыки, шума, Аня окинула взглядом залу и подумала: «Ах, как хорошо!»... При трансформации образов чеховского рассказа в иную художественную систему авторы фильма в целом сохранили мотив противостояния двух пространственных сфер — домашней, замкнутой среды и «природной», открытой; но противостояние это все же не достигает в «Анюте» той остроты конфликта, которая есть в «Анне на шее». И объясняется это, видимо, тем, что самый мотив природы по-разному истолковывается в обоих случаях. В рассказе он насыщен светом, движением, ощущением радости бытия, свободы. В фильме-балете природа, напротив, выглядит статуарной, застылой, по-осеннему или по-зимнему оцепенелой. Она выступает в качестве начала, враждебного человеку, как фон, на котором развертывается равнодушное, бесконечно тоскливое коловращение будничной жизни. Не случайно уже в первом эпизоде фильма — сцене променада на бульваре — возникает тема «вальса-шарманки», которая в качестве основного своего элемента включает безостановочно кружащийся мотив; его ротация и станет символом унылого пустопорожнего провинциального существования. Символ этот последовательно выдерживается на протяжении фильма и в музыкальном и в визуальном рядах, повторяясь несколько раз, становясь одним из наиболее значительных его лейтмотивов. Вообще же система повторяющихся образов-символов разработана в музыке весьма последовательно. Закрепление за каждой жанровой сферой определенной, совершенно конкретной семантики (поддерживаемое к тому же зрительными рефренами, реминисценциями) позволяет выстроить психологически убедительную коллизию, основанную на выразительном контрасте, внезапной «стыковке», неожиданном переключении различных по характеру образов. Подобный метод можно назвать характерным для творчества В. Гаврилина в целом. Об этой типичной черте стиля композитора убедительно писала в другой связи Е. А. Ручьевская: «Характеристичность для него (Гаврилина.— М. Г.) не только средство объективизации эмоций, но и способ раскрытия сложных психологических положений, вплоть до самоосмеяния и сарказма — через единство и через противоположность внешнего и внутреннего... Творческая манера Гаврилина отличается большой лаконичностью, даже лапидарностью высказывания, он прежде всего ищет яркий тематизм, иногда яркую деталь, в которой одновременно совместились бы наиболее типичные черты образа. И найдя такую многозначную интонацию, он привлекает к ней максимум внимания, исчерпывает все ее возможности почти не развивая. Отсюда в форме преобладают повторы больших пластов, перестановки их в почти нетронутом виде, всякого рода остинато»[1][1Ручьевская Е. О методах претворения и выразительном значении речевой интонации.— В кн.: Поэзия и музыка. М., 1979, с. 139 (разрядка моя. — М. Г.)]. Вывод исследователя в полной мере приложим к драматургическим и конструктивным особенностям музыки «Анюты». Только здесь роль остинатных пластов играют не характеристические интонации, а жанровые образы-символы. Дополним их перечисление еще несколькими, помимо упомянутых выше. Это «казенная» музыка департамента, где галоп звучит как некая пляска-машинерия, как танец заведенных существ-автоматов. (Данный эпизод вызывает в памяти другие сочинения, где композиторы также пытались передать картину чиновничьего быта и нравов — мюзикл «Дело» А. Колкера, балет «Ревизор» А. Чайковского. Показательно, что во всех случаях используются сходные, почти идентичные приемы обрисовки.) Появление Его сиятельства сопровождается гаммообразным унисоном медных с характерным глиссандированием — данный лейтмотив (и лейттембр) также возникает неоднократно (правда, не всегда он выдерживается до конца последовательно в своем значении — в сцене бала он почему-то однажды «переадресован» отцу Анюты). Семантика тембров в целом широко использована при создании музыкальных портретов персонажей: скрипичными соло сопровождаются появления отца Анюты, фортепианными «штудиями» — образы братьев, барабанным тремоло — Модест Алексеевич. Более многозначным предстает образ самой Анюты, чья характеристика слагается из нескольких, легко преобразующихся друг в друга тем. Это и понятно: центральный образ наиболее сложен, многосоставен, подвижен. Но все же есть здесь доминирующий тембр-образ — флейта, и ведущий жанр — вальс. В дуэте со Студентом он медленный, лирический, в сцене с Его сиятельством — кокетливый, ветреный «вальс обольщения». Во всех этих эпизодах обнаруживается виртуозное актерское и танцевальное мастерство Екатерины Максимовой, которой удается создать на фоне столь прихотливой смены танцевальных эпизодов образ цельный, одухотворенный, исполненный удивительной поэтичности. В соответствии со своими музыкальными характеристиками остальные герои фильма-балета наделены хореографом В. Васильевым более однозначными, прямолинейными образами: дуэты братьев и их па-де-труа с Анютой напоминают экзерсисы в танцклассе. Движения Модеста Алексеевича — скользящие, «ввинчивающиеся» па, но в сцене получения ордена в его пляске (на фоне трансформированного хорала «Боже, царя храни») обнаруживается, наконец, подлинная сущность персонажа — здесь соединяются удивительное пустозвонство с видимым благочестием. Особый, весьма притягательный для В. Гаврилина музыкальный пласт (одна из ведущих, важнейших тем его творчества!) составляют в «Анюте» образы детства, детскости. Они связаны, в первую очередь, естественно, с характеристикой братьев-гимназистов; но значение данных образов простирается и намного шире, обнаруживая удивительные результаты жанровой трансформации, жанровых «переплавов». Так, в музыкальной партитуре заметна роль незатейливой детской песенки-прибаутки «Ой, звоны звонят, злого волка гонят», возникающей, конечно, не в качестве цитаты, а как некой тематической аллюзии. Появляясь после сцены венчания с ее сумрачным, напоминающим скорее похоронный, колокольным звоном, она звучит как его антитеза, как радостная, просветленная, приветливая звончатость, вызывающая в памяти бряцание бубенцов, детских игрушек и т. п. В хореографическом плане звучание этой темы соответствует стихии раскрепощенного танца Анюты с братьями. Подобная игра контрастами в пределах единой жанрово-«звонной» сферы вызывает значительный эффект остранения, переосмысления и тембра-образа и жанра-образа. Тема детства еще однажды необычно вторгнется в мир взрослый: танцевальная лексика чиновников в сцене приветствия Его сиятельства (и далее — в сцене награждения Модеста Алексеевича) повторяет незамысловатые фигуры детской игры (ручеек). Но в этом случае обобщение через жанр выполняет функцию саркастическую, гротескную. Как видим, работа В. Гаврилина с жанровыми моделями обнаруживает целый ряд интересных новаций — в плане смысловой трансформации, переакцентировки, использования приемов остранения. Но не менее важно и интересно проследить, как отдельные жанры-образы сопрягаются между собою в пределах музыкальной формы целого; как рождаются при этом дополнительные семантические напластования. Первое, что обращает на себя внимание в качестве ведущего конструктивного принципа в музыке «Анюты», — это «цепляемость» отдельных эпизодов друг за друга, их связь на основе неизменных «вторгающихся каденций», предыктов к следующим сценам. Подобное объединение, с одной стороны, служит активному продвижению и развитию формы-процесса, создает, как сказал бы О. Мандельштам, сильную «тягу»[1][1 Термин использован им применительно к терцинам дантовской «Божественной комедии» в «Разговоре о Данте»] в пределах целого; а с другой стороны, вызывает любопытные изменения смысла отдельных сцен в их связи с прошедшими и будущими эпизодами. Так, музыка сцены в департаменте, «захлестывая» собою начало следующей сцены — приготовления к свадьбе, придает и ей какой-то бездушно-казенный оттенок. А исподволь закрадывающиеся в любовный дуэт со Студентом колокола (из последующего свадебного шествия) звучат как предвестие душевного одиночества. Сопряжение на ближайшем расстоянии двух звонов — детского и сумрачно-трагического — также по-новому окрашивает каждый из этих образов. Вторжение двух единственных внемузыкальных элементов (аплодисменты в сцене благотворительного базара и тихо удаляющиеся шаги отца в одном из предфинальных эпизодов) можно расценить как выразительный эллипсис. Последняя из этих двух музыкальных и смысловых пауз служит оттеняющим предварением вальса-рефрена, возвращающего все на круги своя, к безостановочному ходу жизни, к безысходной тоске существования. Одинокий голос флейты словно растворяется в небытии, замирая на слабом возгласе-вздохе... Недосказанность, временная разомкнутость оказываются здесь сродни характеру многих чеховских финалов — не «развязок», а бесконечных продолжений, неотступных вопросов о смысле и ценности человеческой жизни. Авторы «Анюты» смогли по-своему убедительно раскрыть чеховскую тему в новом, необычном жанре телефильма-балета. При этом принципиально важным представляется то, что двигались они не по линии внешней иллюстративности (столь искусительной для балета), а в направлении адекватного отражения наиболее существенных мотивов творчества писателя. Роль музыки в концепции целого, как мы могли убедиться, при этом оказалась чрезвычайно велика как ведущего обобщающего фактора при передаче миронастроения, особого духовного состояния персонажей и эпохи в целом. На пути освоения чеховской темы, на пути становления нового жанра телефильма-балета достигнут убедительный и серьезный художественный результат. |