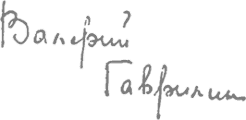Гладкова О.
Валерий Гаврилин. Постскриптум
/ О. Гладкова // Музыкальная жизнь. – 2009. – №12. – С. 14–16.
|
Гладкова О.
Валерий Гаврилин. Постскриптум
/ О. Гладкова // Музыкальная жизнь. – 2009. – №12. – С. 14–16.
Осенью в концертных залах Петербурга
прошел юбилейный фестиваль, посвященный памяти Валерия Гаврилина. В 2009
году исполнилось семьдесят лет со дня рождения и десять – со дня смерти
композитора.
В одной из дневниковых записей – для себя, не для прессы – Гаврилин
отметил: «Среда. Вечер. Прощание с ботинками. Уходят вещи... Раньше жили
до десяти поколений». Не в Питере, конечно, где талый лед посыпают
крупной солью, и обуви едва хватает на сезон. А там, в далекой деревне,
где осталось детство, горластые мальчишки, деревянный дом в три окошка,
где поколения крепче связаны, а стар и млад понимают друг друга лучше,
чем в шумном городе: теснота и давка, но все по одному...
В своей не слишком долгой жизни Валерию Гаврилину пришлось прощаться со
многими: с родной Вологодчиной, домом и любимой учительницей,
ленинградской спецшколой-десятилеткой, друзьями-одноклассниками, которых
судьба раскидала по всему белу свету.
С мечтой о симфонии и надеждами на постановку новых опер. «Времена
сейчас не творческие... нет спроса на отечественную современную
литературу, музыку. Запад заказывает классику и только классику. И мы
начинаем все предавать, пускаем на панель наши прекрасные,
формировавшиеся годами оркестры. Все на продажу, на продажу». Конец
восьмидесятых...
«Кому это нужно...», – отвечал он на вопросы журналистов о том, почему
написанное часто прячется в стол и отчего признанный автор не выпускает
из рук законченные и оркестрованные опусы, не ищет «действующих»
режиссеров, вокалистов, балетмейстеров. – «Это у кого-то все вершины да
взлеты... мой творческий путь состоит из сплошных падений...». Он
упорно, по-прежнему называл свой город Ленинградом и смеялся над теми,
кто после кантат о коммунизме, написанных к датам, пленумам и съездам
мастерил музыку «духовную», сочинял «херувимские» для скороспелых хоров,
с энтузиазмом певших наскоро сделанные церковные «произведения» – то,
что и до революции никто не пел, изделия «патриотов своих нарядов и
желудка».
Культурной глобализации, очевидной для всех, посвящались труды и
семинары; эсперанто музыкального авангарда завоевывало мир, а Гаврилин,
как античный Антей, спешил припасть к родной земле, к фольклору –
целебному, живительному источнику сил. Всю жизнь он стремился из душного
мегаполиса на волю, к разнотравью, к прохладной воде ручейка, терпким
запахам грибного леса. И весело катила электричка в родное Перхурьево,
куда наезжал он не раз, да только исчезла она, малая Родина, как
легендарный Китеж, хоть сохранился и старый дом с лежанкой на дымной
печке, и маленький столик, где по утрам, еще до войны, с сестрой и
матерью пили чай. Теперь это пригород Вологды, дачные места, и вовсе не
«злы татарове», а горожане копошатся на шести сотках, вскапывая,
подрезая, удобряя, и все равно – что ты будешь делать! – толком ничего
не растет, одна картошка.
Никто из них не поверил бы, если б сказали, что вот, у дороги, стоит и
смотрит вдоль улицы, опираясь на палочку, народный артист СССР, лауреат
Государственных премий, композитор – внешность-то совсем не столичная,
так, неказистый мужичок, из деревенских, только что в очках и синем
городском плаще «болонья».
Однажды, на этнографическом вечере в Союзе композиторов, когда пожилые
женщины с красными, натруженными руками запели «Хасбулат удалой», он
неожиданно вытер слезу на щеке к удивлению коллеги-соседа.
В филармонии, на фестивалях и премьерах, он и вообще появлялся редко. В
свои шестьдесят с небольшим Гаврилин выглядел старым, даже дряхлым: на
собственных авторских концертах, кланяясь, подвигался к авансцене с
трудом, опираясь на пюпитры и услужливо протягиваемые руки. «Можно ли
присесть здесь?» – тихо спрашивал у завсегдатаев репетиций,
останавливаясь у красных бархатных кресел. «Что-то было смиренное в его
небольшой фигуре, в его манере разговаривать... преувеличивать
достоинство сидящего рядом человека», – вспоминал о композиторе Михаил
Ульянов.
Казалось, он нес свой крест, непомерно тяжелый для одного музыканта.
Пытаясь удержать в искусстве главное – национальное, русский мелос,
поющую фактуру, теплоту и славянскую мягкость. Убежденный в том, что
лучшее в нашей музыке, от Глинки до Рахманинова, росло из этого корня –
любви к Отечеству, к русской природе, крестьянству, фольклору.
С годами этот груз уплотнялся, становился свинцовым, а после смерти
Георгия Свиридова, единомышленника и наставника в искусстве, и вовсе
неподъемным. Конец восьмидесятых и начало девяностых несли с собой не
просто бедность; чудовищное унижение было хуже безденежья и
нестабильности, карточек на мыло, сахар и муку. Держава распалась, как
карточный домик; русские невесты, подобрав подолы белых платьев, «бежали
замуж» за рубеж, молодежь уезжала работать в другие страны.
О «русском методе» спасения от жизненных неурядиц Гаврилин говорил с
досадой: ведь все это «не для радости, не для удовольствия... Русский
пьет, чтобы ему не было стыдно грохнуться на колени и плакать, и жалеть
нашу обездоленную землю и нищих, обкраденных государством и всяким
жульем людей». Добавляя тихо: «Да я и не пью. Но просто иногда бывает
так тоскливо...».
«Я – последний поэт деревни», – мог бы сказать он вслед за Сергеем
Есениным. Вся его музыка родом из детства, из вологодских деревень.
Оттуда же главная, вечная тема -женской нелегкой судьбы, сиротства,
неизбывного одиночества; не об этом ли «Русская тетрадь», «Вечерок» и
«Анюта», «Военные письма» и «Свадьба»?
Женских слез, еще с далеких сороковых, Валерию Гаврилину довелось
увидеть немало – жен без мужей, невест без женихов, сестер без братьев.
«Благодаря им я выжил, стал таким, какой есть, и долго смотрел на мир их
глазами».
Вологодчина, край знаменитых песенниц и искусных кружевниц. Военное
лихолетье. Серые треугольники солдатских писем, вдовья доля, горе,
которое открыто всем, не спрячешь.
Всех мужиков, пришедших с войны в Перхурьево и окрестных деревнях было
по пальцам перечесть, калечных, израненных. По дорогам тянулись беженцы.
«Когда сейчас молодые телекомментаторы говорят, что мы нищие и
голодные... я вспоминаю, как в мороз и пургу шли полуодетые люди с
красной растекавшейся кожей, голодные, а нам нечего было им дать».
Мать Валерия Гаврилина, Клавдия Михайловна, директор детского дома,
собирала бездомных ребят, оборванных бродяжек, которые не знали ни своих
адресов, ни фамилий. Нянюшка, крестная Валеры и две ее сестры выплетали
кружевные панно по двадцати квадратных метров площадью – государство их
продавало за валюту, а мастерицам платили гроши, двенадцать рублей
каждой – на всё, про всё.
«Моя мать получала пятьсот рублей зарплаты, так она считалась богатой
женщиной», – вспоминал композитор. Многие завидовали...
В 1950 году К.М. Гаврилину арестовали по ложному доносу, а ее сын был
доставлен в детский дом – без обуви, без пальто, смертельно напуганный.
Тюрьма, лагерь. Редкие свидания с матерью запомнились навсегда.
Годы не стерли всё то, что потом узнавалось мгновенно – в фильмах,
спектаклях, книгах, общении: жесты, сленг, приметы быта. «Я вот из-за
этого не могу даже оценить такого артиста, как Высоцкий. Его
исполнительская манера напоминает мне то, что я слышал тогда», – писал
композитор впоследствии.
Учился Валерий неважно, с двойки на тройку, но в хоровом классе, а потом
и в музыкальной школе отмечали, хвалили, уговаривали воспитателей не
посылать в ФЗУ (обычный удел детдомовских ребят). Молоденькая
учительница музыки Татьяна Дмитриевна Томашевская решилась показать его
ленинградскому пианисту – педагогу И.М. Белоземцеву, приехавшему в
Вологду. «Ого, какой переросток! И вы такого большого стали учить на
фортепиано?» – сказал педагог. Однако, послушав, рекомендовал везти в
Ленинград, в школу для одаренных детей.
Осенью 1953-го Клавдию Михайловну освободили, как и многих после смерти
Сталина, полностью реабилитировав. А летом еще ее сын уехал в город,
держал экзамены и был зачислен в музыкальную спецшколу-десятилетку, в
класс кларнета.
В детдоме Валерия проводили в лучшем виде, собрали одежду, дали ботинки,
почти новые, белья. Денег дали – чуть ли ни в первый раз держал в руках
такое количество, казалось: ой, как много! Ленинград поначалу испугал,
не понравился: толпы незнакомых людей, машины, автобусы, давка, всюду
грязь и копоть... «Я никак не мог увидеть той красоты, про которую читал
и которую видел на открытках», – вспоминал Гаврилин.
С деньгами обращаться не привык, и они быстро разошлись неизвестно куда,
причем так, что к первому сентября не осталось даже трех копеек на
трамвай. Поэтому встал в пять утра и от Автово (где летом жил в
консерваторском общежитии) до центра шел пешком – зайцем ехать не
позволяла врожденная честность.
Много лет спустя, уже известным композитором Валерий Гаврилин вот так же
шел по шпалам из дачного Комарово в Ленинград домой – повздорил с
домашними, выскочил без копейки, на электричку не было денег, а путь
неблизкий. И разве нет все той же крестьянской убежденной честности в
любом из его сочинений?
«Мне страшно хотелось учиться музыке, но когда в первые два дня я
увидел, что делают ребята, как они играют, то меня взяла оторопь. Я
решил, что мне надо что-то придумать. Я занимался почти сутками, в
первое время спал по четыре часа».
Валерия поселили в интернате, в огромной комнате, где размещалось
пятнадцать или шестнадцать кроватей, но было весело, интересно, часами
спорили о новой музыке, композиторах, исполнителях. Гаврилин был из
первых энтузиастов: играл Стравинского и Салманова, лежа в постели
(прямо в одежде, ноги в ботинках – на металлической перекладине, так
удобнее) слушал записи симфоний Шостаковича, которые знал почти
наизусть. Под общий гогот иногда отпускал сентенцию вроде: «А знаете,
ребята, вообще я не очень люблю эту вашу музыку. Мне больше нравятся
"Валенки" Лидии Руслановой».
Многочасовые штудии, впрочем, не означали пятерок и быстрого успеха. К
духовикам Гаврилин так и не прибился (в старших классах школы его
перевели на только что открывшееся композиторское отделение); в
консерватории, в классе О.А. Евлахова, дело тоже подвигалось негладко.
Услышав о женитьбе первокурсника (девятнадцать лет, ни жилья, ни
заработка), Орест Александрович приподнял бровь, без тени улыбки, ничего
не сказав, а через несколько месяцев поставил бестрепетную подпись под
заявлением об уходе студента в академический отпуск «по болезни».
«Болезнь», род пляски св. Витта, проходила в постоянных перемещениях с
места на место, со строки на строку в затрепанной трудовой книжке;
три-четыре работы в разных концах города, частные ученики, грудной
малыш: сын Андрей родился весной 1960-го; быт густонаселенной
коммунальной квартиры. Валерий Гаврилин таперствовал в оперных студиях,
в Доме пионеров, в хореографических кружках.
Спустя годы, опять же «по болезни» он бросил аспирантуру, а до того
сменил композиторское отделение на музыковедческое с дипломной работой о
лирике В.П. Соловьева-Седого – ко всеобщему удивлению: звезда Василия
Павловича к тому времени, казалось, уже закатилась.
Тогда, в элитной композиторской среде, он слыл для многих старомодным,
безнадежно «вчерашним», не деревенским, но не вполне и городским.
Одиночкой на обочине скоростной магистрали.
В начале шестидесятых, прослушав «Немецкую тетрадь №1», большой
консерваторский авторитет, профессор, сказал с укоризной: «Поразительно,
но это еще хуже, чем...». «И тут он назвал имя известного композитора,
которого в те годы не ставил ни во что», – вспоминал Валерий Гаврилин,
без обиды, скорее, с иронией.
Летом 1964 года родилась «Русская тетрадь», причисленная сегодня к
классике XX века. Пресловутый тритон через октаву в партии меццо («Что
девчОночки стоите...») пародировал весь Союз композиторов – дескать, не
случайно первые исполнительницы, едва взглянув, швыряли автору ноты. Все
ахи и охи, «милёнок» и «злые подруженьки», глиссандо и причет звучали в
ту пору у многих, но в меру. Не отменяя профессионального глянца...
Бабьи песни, частушки, жестокий романс были для Гаврилина главной
музыкальной пищей, привычной с детства. Народные тексты вокального цикла
и свое композиторское слово слились неразрывно. И не мещанские
«страдания», а подлинное горе той, которую «отлюбили и бросили» во всей
простоте и непридуманности чувств волновало в музыке «Тетради».
Отмеченной безошибочно узнаваемым умением автора думать и говорить
по-русски.
Опус, награжденный Государственной премией (1967), выдвинул Гаврилина в
ряд самых известных композиторов страны. Ширились профессиональные связи
– с исполнителями, балетмейстерами, режиссерами, складывались прочные
творческие отношения с поэтами-единомышленниками. Вокальные циклы и
симфонические сюиты, музыка к драматическим спектаклям, к фильмам,
кантаты, оратории, песни, ставшие «хитами»: «Любовь останется», «Мама»,
«Два брата», «Дождь за окнами»...
Ленинградская премьера хоровой симфонии-действа «Перезвоны» в 1984 году
прошла с аншлагом: лишний билетик в Большой зал филармонии спрашивали
уже в метро. Балет «Анюта» танцевали в Москве, в Большом театре и в
Неаполе, «Военные письма» ставил в своем театре Борис Покровский,
популярные эстрадные певцы Эдуард Хиль, Мария Пахоменко, Людмила Сенчина
исполняли гаврилинские песни на радость всей матушке-России.
Шли годы. Одинокий шаг терял упругость, замедлялся и тяжелел. Само
столетие старело, стремительно двигаясь к концу...
Над инструментом в комнате Гаврилина взбегают к потолку на крестьянский
манер фотографии. Из композиторов – Мусоргский и Свиридов. Из музыкантов
– народная сказительница Кривополенова. Писатели Астафьев, Распутин.
Митрополит Иоанн. Василий Шукшин – горожанин из деревенских, как и сам
Гаврилин. Валерий Гаврилин полагал – нет, был уверен! – что с уходом
поколения шестидесятников его музыка забудется, уйдет со сцены вместе с
певцами, уйдет неизбежно.
В рамках нынешнего фестиваля состоялся вокальный концерт-конкурс с
участием студентов кафедры камерного пения Петербургской консерватории.
Молодежь соревновалась в исполнении гаврилинских сочинений. В
филармонических афишах его имя стояло рядом с именами и опусами
композиторов-«авангардистов», тех, которых он считал своими
противниками. Он и сам, наверное, очень удивился бы этому
обстоятельству... |