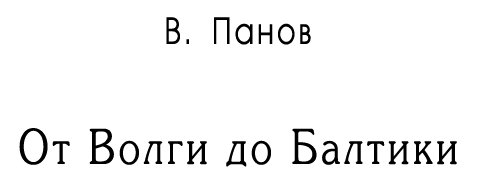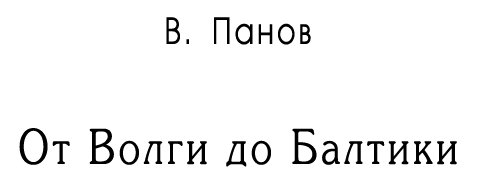|
Путевые заметки
1. По каналу и морю
В ясный день сентября в Москве, в Химках, сел я на пароход и отправился на трассу строящегося Волго-Балтийского канала.
Мы знаем, в какие короткие сроки построены крупнейшие в мире талы: Беломорско-Балтийский, имени Москвы, Волго-Донской имени В. И. Ленина; проведена большая работа по комплексному использованию водных ресурсов Волги, Камы, Днепра и других рек; реконструированы Нева и Свирь. В самые ближайшие годы новый водный путь между Волгой и Балтикой завершит единую глубокую сеть внутренних водных путей Европейской части СССР. Крупнотоннажный флот Волги получит ободный выход на речные и озерные просторы северо-запада, к Ленинграду. Самоходные баржи от Москвы до Ленинграда будут идти 3–4 суток вместо 6–8 в настоящее время. Для ленинградских промышленных предприятий, расположенных в прибрежных районах, особенно велико значение нового пути. Город станет крупнейшим портом. После открытия движения по новой трассе намного возрастет грузооборот по Неве, Свири, на каналах Беломорско-Балтийском, Московском, пропускная способность которых пока используется лишь в незначительной степени.
Небольшой пароходик почти бесшумно отделился от пристани в Химках и не быстро пошел, как бы оберегая зеркальную гладь Московского канала, гладь, отражавшую в себе зеленые мягкие увалы, лес, бревенчатые дома, стожки сена, даже автомашины, бегущие по серым дорогам, конечно, облака, словно для того и задержавшиеся в небе, чтобы полюбоваться на себя в спокойной воде.
В Рыбинском водохранилище, когда на сильной волне закачался и заскрипел наш «Козьма Минин», сосед по палубе и собеседник мой, плотник Аюхин, заговорил о стожках сена. Когда-то тысячами ставили их по там и низинам, теперь затопленным.
– Сперва втыкают в землю высокий кол, – рассказывал он, сложив на коленях большие руки в рубцах и шишках, – потом начнут метать сено к нему – стожат. Зимой увезут сено, темные круглые пятна останутся – остожья. Да и кол в наших местах зовут остожьем. До самого Ленинграда по берегам увидишь стожки, остожья. В Москве улица Остоженка – теперь она Метростроевская – откуда взялась, думаешь? Сенокосы поступали к батюшке Кремлю.
На корме, скрытые от холодного ветра, мы грелись под скупым солнышком; за кормой вились чайки, как это бывает в море поблизости от берегов. Рядом, на скамейке, подвернув под себя ногу в капроновом чулке, сидела женщина лет тридцати, с неописуемо рыжей шапкой волос, в зеленом пальто, просторном, как шатер. Она читала газету. Две колхозницы ели с оберточной бумаги вареное мясо, третья забавлялась с девочкой в синей шапочке. Высокий детина в новых ботинках на толстой белой подошве, в добротном коричневом пальто щелкал фотоаппаратом. На детину все посматривали – фотографирует голую воду, до горизонта во все концы пятнышка не видно...
Аюхин покосился на заморские ботинки и коричневое пальто.
– Зачем тебе вода? – спросил он.
– На память,– ответил тот, щелкнув своей машинкой.
– Ты бы людей снимал...
– Мне вода нужна.
Аюхин, глянув на большие руки фотографа, спросил дружелюбнее:
– Ну скажи, милый человек, зачем воду снимаешь?
– Мы тут жили, когда еще моря не было, сеяли пшеницу и рожь... Огороды были, колхоз...
– Увидишь сквозь воду?
Став к нам спиной, фотограф сказал:
– Увидим чего-нибудь. Детство свое и на морском дне разглядишь... Рыжеволосая женщина взволнованно начала рассказывать: ей было двенадцать лет, когда из деревни ездила с отцом в город Мологу – необыкновенно красивым показался ей маленький городок, теперь затопленный.
Гражданин с фотоаппаратом вздохнул:
– А луга-то какие были...
И разом вслух вспомнили травы, сенокосы, строевой лес, высокие бревенчатые дома. А что дает людям Рыбинское море? Заспорили.
– Рыбы нет в нем, оно без жизни, – сказал Аюхин, кивнув на крутую волну с белым гребнем. – Одна грузопассажирская линия. Стужа. Огурцы не растут... Вода не хлеб. Хлебом хвались, а водой чего хвалиться? Нынче вон хлеба наросло – вовеки не бывало столько в России! Хлебом и хвались. Из целины в Сибири пашню сделали – это да! Море хлеба – счастье народу, а море воды – кому радость?
Притихнув, мы посматривали на Аюхина. Крестьянки давно прислушивались к его словам, переглядывались с другими пассажирами. Рыжеволосая женщина отложила газету, два молодых человека с чемоданчиками пренебрежительно косились на плотника, как на невежду. Признаюсь, и меня озадачили его слова.
Он продолжал:
– Зачем разливать воду так широко? Нужен ход – копай машинами канал, добрался до низкого места – насыпью отгородись, поставь бетонный забор, не гони людей с места. В сухую, голую степь дай воду, а в сырые места под Москвой – зачем она?
Пожилая крестьянка в синем ватнике, вздохнув, сказала:
– В Рыбинске на море станцию поставили, а нам свет не дали, а мы думали землю пахать электричеством, когда станция строилась. Близко ведь. Можно рукой подать нам проволоку от Рыбинска.
Рыжеволосая пассажирка в зеленом пальто рассмеялась.
– Подать нельзя – напряжение большое. В деревнях надо строить подстанции.
– Матушка моя, мы тоже не дураки. Подстанции делать – не велик подвиг, когда море сделано. От силы и силу давай нам, а не от движков, что тарахтят в колхозах.
Аюхин заговорил о каналах – мало по ним идет барж и плотов, сетовать стал, что Москве со всех концов страны подается электричество, газ, а в деревни по берегам Рыбинского моря керосин завозят, и то непостоянно. Фотограф заспорил с ним, обвинив во всех сельских непорядках деревенское начальство. Две колхозницы немедленно поддержали Аюхина, а не фотографа.
Крестьянка постарше, в синем ватнике, давно приглядывалась к Аюхину – к его широко расставленным бегающим глазам, к морщинкам на лбу, к неторопливым жестам, – пытаясь, видимо, вспомнить, где и когда с ним встречалась. В Москве? В Рыбинске? А не односельчанин ли?
– Узнать не можешь? – спросил он.
– Да вроде бы видела обличье... Ой, господи, сосед! – Она распахнула стеганку, засмеявшись громко.– Росли вместе. Дашку неужели не помнишь? Ну, а теперь Дарья Петровна... Редкий гостенек на родимой улице... Никто и не вспомнит, когда ты срубил и распластал последнюю сосну в наших лесах. Годов, поди, тридцать шатался по белому свету? А под старость на печку потянуло? Много вас таких развелось...
Из разговоров с Аюхиным я уже знал, что он работал плотником на многих стройках.
– Давай-ка дома отличись плотником, – сказала Дарья. – Клуб строят.
– Рано мне на тариф садиться, – рассмеялся Аюхин. – На стройках сдельно платят, прогрессивки всякие, бежит копейка на копейку, а в деревне тариф скупой. Вон фотограф тоже не торопится с завода на родимую улицу, погорюет над снимками с моря да на том и успокоится...
Женщины рассмеялись, а гражданин с фотоаппаратом ответил с досадой Аюхину:
– Это вас не касается. Здесь я родился, а на заводе в люди вышел. Тарифа не боюсь и моря не отрицаю.
– Ну, а я где в люди вышел? – У плотника все морщинки на лице заиграли. – Как началась первая пятилетка, так мы и поехали в люди, а вслед за нами дети, внуки... Ну, а нынче тянемся к родным селам...
Разговор оборвался. Наступал вечер. Палуба остывала. Солнце медленно закутывалось в позолоченные тучи. Аюхин, склонив голову набок, задумался. Колхозницы спустились по лестнице в теплое нутро парохода. Щеголеватый гражданин сфотографировал закат и ушел в ресторан.
Ночью пароход усердно кланялся, скрипел, как плетеная корзина. Не спалось. Включил свет. Стул опрокинулся на диван, книжки и тетрадки – под столиком. Морская качка под Москвой!
2. Рыбинск–Череповец
Из шлюза, отгораживающего водохранилище от Волги, мы увидели Рыбинск – смотрели на город с высокой водной площади, заключенной в гигантское железобетонное корыто. В то время, когда мы опускались между мокрыми стенами корыта до уровня Волги, рядом с нами, в другом шлюзе, пароход поднимался от Волги до уровня моря, чтобы уйти из Рыбинска в Москву или в Череповец.
Шлюзы от Москвы до Ленинграда, большие и маленькие, бетонные, гранитные и бревенчатые, как, наверное, и все шлюзы на свете, очертаниями похожи на букву «П». Войдет пароход в «П», закроются за ним железные или тесовые ворота, поднимется или спустится он, заключенный в коробку, затем откроются ворота перед его носом, и он отправится в путь.
Еще в первом шлюзе девочка в синей шапке, бегая по палубе, восхищалась:
– В букву пэ въехали, из буквы пэ уехали!
Спускаемся. Справа и слева стесняют нас все растущие стены, до того высокие под конец, что с палубы приходится смотреть на их край, как с земли смотришь на вершину сосны. В другом шлюзе подъем. Со дна из открытых заслонок прибывает вода, кипит, как в огромном котле. Через две-три минуты под судном плавно расходятся круги – сколько заслонок на дне, столько и кругов. Судно поднято. Впрочем, в большинстве шлюзов нет бурления со дна – подъем плавен.
На всем пути от Москвы до Ленинграда – старинные города; Рыбинск самый крупный из них. Без малого тысячу лет назад на месте города было селение Рыбаньское, позже – Рыбная слобода, а с 1777 года – город. Бурлацкая столица! Здесь пели: «Да вы, ребята, не робейте, свою силу не жалейте!», «Уж вы стойте-ка, братцы-ребятушки, стойте, не гребитесь, уж вы дайте-ка, братцы-ребятушки, Волге устояться...» Здесь «хорош миленький уродился, но в бурлачишки подрядился». В Рыбинск собирались к весне сотни бурлаков, сплавщиков, водоливов работать на Волге до Астрахани и по Мариинской системе до Петербурга. Система начиналась отсюда.
Рыбинск в прошлом – это перевалка грузов с волжских судов на мелкие барки, полулодки, мариинки, чтобы тянуть их 50–60 дней до Петербурга; это сотни пароходов и барж, принадлежавших купцам Жеребцовым, Охлобыстиным, Милютиным; это поколения судопромышленников и бурлацкой голытьбы.
Ныне в городе строят озерные буксиры, плавучие перегрузочные краны, моторные рыболовецкие боты, лесорамы для обработки древесины, дорожные, кусторезные, полиграфические машины, землесосные снаряды, гидромониторы. В сотнях городов страны газеты печатаются на машинах, изготовленных в Рыбинске.
Рыбинская станция дает электрический ток Москве.
Приток волжских грузов в Рыбинск и отправка из него по Мариинской системе непрерывно возрастали и в прошлом веке. Заметный спад начался в 1870 году, с открытием Рыбинско-Бологовской железной дороги, чуть не полностью «перехватившей» грузы с Вышневолоцкого и Тихвинского водных путей. Меньше повезли товаров и по Мариинской системе – железная дорога доставляла их быстрее раз в десять. Водой тянули сравнительно недорогой груз – волжский хлеб, нефтеналивные посудины. В наше время у пристани тихо. Во-первых, пароходы большие, государственные, порядок иной; во-вторых, теперь перевалка с волжских судов на мелкие переместилась из Рыбинска в Череповец, потому что вместо мелководной Шексны с ее порогами между этими городами легло море, и мимо причалов Рыбинской пристани проходят большие транзитные составы – хлеб, руда, соль, цемент; в-третьих, надо прямо сказать (тут и вспомнишь Аюхина), что пропускная способность водных путей не только на стыке Волги с Мариинской системой, но и по всей стране используется на одну треть. Доля речного транспорта в общем грузообороте не достигает и шести процентов.
Над причальной стенкой Рыбинской пристани – пять мощных кранов, из них четыре бездействуют: нет грузов. Тихо. И странно видеть здесь рейдовые буксиры с названиями «Ураган» и «Пурга». Непонятно с первого взгляда, почему многочисленные предприятия Рыбинска отправляют свою продукцию во все районы СССР по железной дороге, а не по воде. Ведь, к примеру, в 1957 году на Волге себестоимость грузовых перевозок была 1,49 копейки за тонно-километр, а на смежных и параллельных железных дорогах общего пользования – от 3,13 до 3,89 копейки.
– Это мы знаем,– сказал мне ответственный работник завода, изделия которого отправляются семидесяти совнархозам. – Знаем больше: если бы полностью загрузить реки, каналы да ускорить ход судов, то перевозка грузов водой стоила бы раза в четыре дешевле железнодорожной...
– Но в чем же дело?– воскликнул я.
– А в том, что медленно ходят наши суда, мало самоходного флота... Плохо механизировано хозяйство пристаней, портов, почти не механизированы работы в трюмах. А склады? У нас в городе несколько мельзаводов, но разве решатся они муку отправлять водой, если у Рыбинской пристани нет благоустроенных емких складов? Все эти помехи надо устранять немедленно, а то и новый канал будет не полностью загружен.
От Рыбинска снова через шлюз поднялись в море и всю ночь по крутым волнам добирались до Череповца:» Утро было серое, плотные тучи лежали в небе, как прибрежные пески. За лесом, за тучами показались трубы металлургического завода.
Лес на берегу Рыбинского моря будит во мне острую жалость, потому что не вьется здесь, как это бывает вокруг озер, зеленая опушка с густым кустарником, не шумят пышные деревья по краю дубравы, а сразу с берега начинается середина леса, вся в следах половодья: крест-накрест полулежат мертвые сосны и ели; невысокие, но крепкие дубки уткнулись лобастыми вершинами в воду; черные стволы намокших лип, почти спрятанные в осоке,– в ядовитых стеблях болотного хвоща; березняк похож белизною на кости.
На береговой горе – большой дом с вывеской: «Северо-Западное речное пароходство. Пристань Череповец». И помельче: «Первого разряда». Иду знакомиться с начальником пристани. Гуман Мажитович Мажитов – татарин, из Караганды. До восемнадцати лет в казахстанской степи воды и в луже не видел, но тянуло его к реке, к морю. Окончив в Ленинграде речной институт, женился на однокурснице родом из Череповца...
Телефонный звонок из Ленинграда прерывает наш разговор. Гуман Мажитович рассказывает начальству о делах пристани. Из этого телефонного разговора мне стало понятно, что первое место в перевозках теперь занимает соль – ее отправляют в Мурманск для засолки рыбы.
– Не берут, – негромко говорил в трубку Гуман Мажитович, словно его собеседник находился не за сотни километров, а за стеной кабинета. – «Мурманрыба» не принимает, Андрей Владимирович. У них этой соли запас годов на пять. А соль идет и идет к ним. Хлеба? – Он молча слушал заместителя начальника пароходства, делая пометки в настольном календаре. – Хлеба до конца месяца отправим десять тысяч тонн. Я послал бы с хлебом большую самоходку, но технический участок не пропустит ее в систему. Краны режут меня! Площадок мало!
Я понял также, что с большого волжского судна в Череповце приходится перегружать пшеницу на десять, а то и пятнадцать маленьких суденышек, чтобы отправить по старинной системе в Ленинград. Эта старинная система узенькой водной полоской, ниточкой протянулась между Волжским и Балтийским бассейнами.
– А после постройки Волго-Балтийского пути никаких перегрузок не будет, – объяснил мне Гуман Мажитович. – В чем тут дело? – Он подошел к схеме Волго-Балта, висевшей на стене. – По старинной системе допускается лишь малая осадка... Но дело еще и не только в этом – можно недогрузить большие баржи на Волге, и они из Череповца уйдут в Ленинград, – дело в том, что новые волжские баржи огромны и по величине и по ширине. Не проскочить великану в узенькие воротца старых шлюзов! Тут и вся беда. Грузы? На Ленинград их в два с половиной раза больше, чем на Москву и Волгу. Да, – согласился он, – в старой России из Череповца на Волгу почти не было грузов, но мы и не сравниваем себя со старинкой. За семилетку здесь появится большой порт металлургического завода. В городе – сто новых улиц.
Иду знакомиться с улицами. Обгоняя трамвай, мчатся грузовики с тесом, с громыхающим железом, с кирпичом, с бревнами. Клены и топольки пока еще редкими цепочками тянутся по краям новых улиц. А в старой части города наоборот: дома запрятаны под кронами берез и тополей. В одном из таких домиков в начале века четырнадцать лет жил Иван Васильевич Петрашень, знаменитый строитель деревянных шлюзов и плотин по Шексне, по Северо-Двинской системе, связавшей Архангельск и Вологду с Петербургом и Волгой.
Начальник технического участка в Череповце – старый инженер, Василий Васильевич Абрамов, – рассказывал мне: в пятидесяти километрах от Череповца, вверх по Шексне, на правом берегу ее, возводится шлюз, будет плотина. Она еще больше поднимет уровень воды не только Шексны, но и Белого озера. Но строится шлюз очень медленно.
Это будет первый шлюз, первая плотина новой трассы, начинающейся у Череповца. Трасса пройдет по реке Шексне, через огромный Череповецкий бассейн (в пять раз больше Московского моря), по Белому озеру, по рекам Ковже и Вытегре (каналы прокладываются в их долинах) и закончится у южной части Онежского озера. Будет шесть гидроузлов: Череповецкий, Шумкинский, Пахомовский, Новинкинский, Белоусовский и Вытегорский; из них первый и два последних строятся. Вытегорский и Белоусовский узлы, электростанции на них, совмещенные с водосбросами, предполагается ввести в дело к 1960 году, что позволит сразу отключить из Мариинской системы десять шлюзов. Стало быть, уже в шестидесятом году продвижение судов между Ленинградом и Москвой значительно ускорится.
Василий Васильевич недоволен строителями; расставаясь со мной у пристани, он говорил:
– Двадцать лет уже прошло с того времени, как начали строить шлюз на Шексне. Сперва война помешала, потом, годов десять тому назад, хорошо взялись, потом бросили все. За последнее время решено в первую очередь поставить шлюзы с ленинградского конца, а, по-моему, надо бы поторопиться и с Череповецкого. Большой шлюз на Шексне и электростанция – это энергия металлургическому заводу, высоковольтная линия от завода к предполагаемой станции давно поставлена. Но завод вынужден питаться током из Рыбинска – за двести с лишним километров, а тут – под руками. Сделать подпор выше Череповца на Шексне – выпало бы восемь шлюзов до Белого озера на двести девяносто километров. И – ток заводу.
Череповецкий комбинат, к слову сказать, металл свой в адрес ленинградских заводов летом отправляет по железной дороге, да и руду в Череповец с Кольского полуострова весь год возят в вагонах, в вагонах возят из Кировска апатитовый концентрат во все города, расположенные на водных путях, – в Ленинград, Горький, Пермь и другие. Экономисты подсчитали: перевозка тонны апатита из Кировска в Ленинград водным путем обходится вдвое дешевле, чем железной дорогой, но руководители предприятий не спешат ломать сложившуюся практику, экономить на перевозках. А ломать придется, в особенности после того, как новая трасса войдет в единую глубоководную сеть и, согласно Контрольным цифрам развития народного хозяйства СССР на 1959–1965 годы, в значительной мере по всем рекам обновится флот, а грузоподъемность самоходного флота увеличится примерно в три раза.
3. По Шексне
Вечером пароход линии Череповец–Белозерск вошел в Шексну.
По берегам зябли затонувшие кусты, березы; бежала на них легкая волна от парохода.
Рядом с нами плыли баржи, самоходные суда. Шексна уже не мелководна – приподняло ее уровень Рыбинское водохранилище. А ведь не одно столетие народ маялся на отмелях и порогах реки, в особенности от Буркова до Иванова Бора. Глубина реки менялась в зависимости от уровня воды в Белом озере; бывали годы, когда исток из озера почти прекращался, и река на порогах чуть ли не обнажала дно. Сотни барж останавливались в пути. В судно с грузом около трехсот тонн на Иваново-борских и Ниловицких порогах запрягалось до восьмидесяти лошадей – табун лошадей для одной баржи! Надо представить себе картину: восемьдесят лошадей тянут судно через пороги; толпа погонщиков с кнутами – спор, крики, ругань; избитые лошади; пьянки у первого кабака. Купец развязывал кошель для дополнительных расходов. Рассказываю об этом потому, что лошади, запрягаемые в баржи на Мариинском водном пути, не древняя история. За Белым озером по Ковже еще колхозы подряжались в тягу по бечевнику.
На Шексне в конце прошлого века коня заменила туерная тяга – по дну реки прокладывалась тяжелая прочная цепь, она из воды как бы взбегала на нос буксира, попадала в барабан лебедки и с кормы вновь спускалась на дно. Ил, грязь, песок оставались на палубе от большой цепи. Но тяга туером была самой надежной. Компания цепного пароходства главенствовала по Шексне, спекулируя на мелководье, на порогах. От Рыбинска до пристани Чайка у Белого озера, за четыреста верст, туерщики брали с купца по три копейки за пуд груза, в то время как за тягу бечевой от Чайки до Петербурга на перегоне в шестьсот пятьдесят верст платилось только полторы копейки с пуда.
Воз, идущий за туером, состоял из пяти-шести судов, а буксирный пароходишко временами не мог тянуть одно суденышко. Разбогатевшие туерщики шутя говорили, что могли бы золотую цепь проложить по всему дну Шексны, тоже в дюйм с лишним толщиной. Подобно щуке, заглатывающей жертву вдвое больше ее нутра, они, не считаясь со своими возможностями, заключали и заключали договоры на тягу судов, чтобы полностью вытеснить с Шексны волжских пароходовладельцев. Суда, попавшие к туерщикам по контрактам, выстраивались весной в длинную очередь и стояли по неделе, по две, особенно когда закладывали на дно знаменитую цепь.
От туерной тяги, как и от бурлаков, остались лишь воспоминания в народе да кое-где ржавые обрывки цепей, взятые со дна реки.
– Она еще перед самой революцией побрякивала, – рассказывал мне старый шкипер Матвей Егорович Новиков. – Лопнет она, два якоря бухнут с носа и с кормы, изловят ее со дна, скуют – и снова поехали с возами, снова забегает из воды цепь на нос парохода и с кормы ложится на дно... А уж когда по Шексне шлюзы поставили, паровички появились – кончилась масленица туерщиков. Теперь же еще, говорят, и паровички отживают свой век.
Идем быстро; бегут от бортов шелестящие серебристые валики на береговую осоку; плывут назад зеленые холмы, деревеньки, села по взгорьям, отмеченные высокими башнями для силоса, группами скотных дворов на окраинах. Грузовики, легковые машины… Стожков мало, большие стога наметаны.
Сосед мой по каюте Смирнов, лесоруб Вашкинского леспромхоза, очень молод, на темной куртке его, какие носят лыжники, значки – комсомольский и парашютиста. Он высок, строен, светловолос, как и подавляющее большинство потомков Новгородской Руси, движения неторопливы, уверенны, разговор певучий. Наполовину не докуренную дорогую папироску небрежно выбрасывает в окно через борт, и она уходит от нас к близкому берегу вместе с чистой волной. Закрыв книгу с заложенной в нее спичкой, Вениамин Смирнов говорит:
– Дед мой с парой коней ходил здесь в тягу по бечевнику. Явится домой – трешка и костлявые лошаденки...
Вениамин возвращается с прорубки трассы в лесу для высоковольтной линии от Череповецкого металлургического завода до Рыбинска.
– Руководство плохое было, – вспоминает он работу. – Надо бы сразу пластать лес, откидывать сучки, а мы навалили его рядов семь. Черт ноги сломит в кряжах и сучьях. Трасса широкая – до семидесяти метров. Чем выше лес, тем шире проход, а если не уширить трассу, то при ветре вершины заденут за провода. Трудно? Да ничего не трудно. Моторная пила валит. Одиннадцать килограммов весу в пиле – один легко несешь от дерева к дереву, а заработок – тысяча семьсот рублей в месяц.
Пароход остановился.
Я пошел смотреть старый шлюз, построенный Иваном Васильевичем Петрашенем в 1914–1916 годах, – любопытно увидеть этот шлюз после гигантов, поставленных в наше время на канале имени Москвы, у Рыбинска. Это оказалась очень длинная камера, сравнительно широкая, с низкой кромкой; по две женщины справа и слева от начала камеры крутили вороты, похожие на буквы «Т»; без особой натуги крутили они скрипучие вороты, изобретенные человеком в глубочайшей, почти недосягаемой древности.
Мы простояли в камере всего на пять минут дольше, чем в камерах канала, где подъем и спуск воротов-щитов механизирован. Небольшая разница? Нет, разница очень большая: ведь там поднимали или опускали нас на высоту, в шесть–восемь раз большую, чем здесь.
Осенняя ночь тучами накрыла пароход; деревни по берегам спрятались за густым лесом, за кустарником, тоже не раздетым еще первыми заморозками, и казалось, что яркие огни светят не из окон изб, а из леса, сидят в елках и березах то низко, то высоко, то редко, то густо и приветствуют пароход, с берега похожий, наверное, на большой фонарь, плывущий по черной воде.
Солнечное сентябрьское утро открыло передо мной необычайную красоту берегов Шексны, задремавших в ожидании близкой зимы. Река приближалась к селам на взгорьях, голубой лентой уходила от них, вилась в пышном кустарнике пестрой раскраски. Картины незабываемой древней Руси. Одни названия сел говорили о многом: Коленец, Великий Двор, Ниловицы, Иванов Бор, Звоз, Топорня, Горицы, Чайка. Топорня славилась плотниками, строившими крепкие баржи. Топорнинский канал – начальное звено Северо-Двинского водного пути, ответвляющегося от Шексны к озерам Сиверскому, Благовещенскому, реке Порозовице, озеру Кубинскому и Сухоне, впадающей в Северную Двину. Горицы! Пароход причаливает к высоким холмам, на которых сохранились еще белые церкви бывшего женского монастыря. Заточали тут княжеских жен, матерей, невест. Жена князя Владимира Андреевича Старицкого, Евдокия Александровна, утоплена в Шексне близ Гориц по повелению Ивана Грозного. Крепкое подворье ныне занято колонией инвалидов. За колонией – большой фруктовый сад, за садом – гора Маура. Предание, сохранившееся в народе, рассказывает, будто бы архимандрит Кирилл в 1397 году поднялся на Мауру, стал на большой камень и, очарованный видом Шексны, Сиверского озера, избрал место для будущей обители. Возник здесь известный Кирилло-Белозерский монастырь, успешно выдержавший в 1612–1613 годах осаду литовцев.
Кириллов остался за горой в семи километрах от нашего пути. Немного не доплыв до Белого озера, я на пристани Чайка сошел с парохода и на попутном грузовике поехал в Белозерск, думая, что найду там контору по строительству Волго-Балтийского канала.
Конторы в Белозерске не оказалось. Пришлось пойти в гостиницу. Чистая, очень тихая, она помещается в доме бывшего купца Калинина. Дом этот с причудливой резьбой, с башенками по краям крыши похож на сказочный теремок. Давненько из крепких бревен поставили его на горке, а выглядит новеньким теремок этот. Молодым, веселым выглядело и Белое озеро, безбрежное, как море.
Здесь же, на берегу канала, огибающего озеро, инженер технического участка водного пути Анатолий. Валерьянович Морозов объяснял мне:
– Гарантийная глубина озера - два метра без пяти сантиметров, а после постройки Волго-Балтийского пути она будет три метра шестьдесят пять сантиметров, но канальчик этот все-таки оставим для местного транспорта: мелкие суда боятся озерного шторма.
К обходному каналу, прорытому в 1846 году, огибающему чуть, не половину озера, сейчас подвозят на машинах грунт с карьеров, на баржах – камень, чтобы укрепить и поднять узкий вал, отделяющий его от озера.
– Какая же сила поднимет воду в Белом озере?
– А плотина и шлюз на Шексне – разве не сила?
Теперь только я со всей очевидностью понял, что по Шексне разольется еще одно море. На севере оно соединится с Белым озером, а на юге будет в каких-то пятидесяти километрах от Рыбинского бассейна. Я прямо-таки ужаснулся.
Морозов, рассмеявшись, указал на карты и чертежи, разостланные по столам.
– Не пугайтесь. Череповецкое море будет почти в четыре раза меньше Рыбинского: правый-то берег Шексны высок, разольется она по левому, и тоже не очень...
Утром в Белозерске из окна гостиницы увидел я темное озеро с парусами рыбаков, сверкающими чайками и осеннюю, слепящую голубизну небес. К рыбакам, под их паруса, хотелось попасть, но рыбаки, бывает, но неделе не возвращаются на берег, и я не рискнул поехать с ними.
Вдоль по набережной, в десяти метрах от канала, тесно стоят лучшие дома города со множеством окон – некогда жила тут купеческая знать.
Шкипер в черном полушубке и солдатской шапке, с которым я, стоя на набережной, затеял разговор, ответил мне с палубы, что его грузовой теплоход идет из Вологды в Ленинград. Спросив, кто я по должности, куда, зачем направляюсь, он подумал порядочное время, оглядел меня и, наконец, пригласил плыть с ним до Ленинграда.
– Кроме шуток! Поговорим. И отец, и дед ходили по системе. Садись. Копейки не спрошу.
Но мне хотелось еще побыть в здешних местах. Я отказался. В доме на набережной распахнулось окно, и молодая женщина крикнула шкиперу на теплоход, стоявший в канале:
– Заходи к свежему пирогу! Только что из печки вынули.
Сто с лишним лет кряду в погожие дни раскрываются окна в домах по набережной вдоль канала, и жители Белозерска, облокотясь на подоконники, не спеша рассуждают со шкиперами, матросами с пароходов и барж, идущих из Ленинграда и Вологды, Череповца и Рыбинска.
4. В деревне
Из Белозерска задумал я вернуться либо на пристань Чайка, либо в Крохино, чтобы проехать посредине озера. Залез в грузовик, полный футболистов, уезжавших играть с командой города Кириллова. Шумно спорили футболисты, вспоминая выносливость и сноровку своих соперников из кирилловской команды, проявленную теми в прошлое воскресенье. Они, эти белозерские парни, по имени знали игроков Бразилии, Германии, Чехословакии, Швеции, как будто запросто встречались с ними на белозерском стадионе.
Отъехав немного от Дома культуры, ребята спохватились – надо бы взять с собой баян. Сбегали за баяном. Вскоре пустился за нами директор Дома культуры; размахивая руками, он кричал: «Верните баян! Баян! Баян!» Машина прибавила ходу, но человек в расстегнутом пиджаке, с растрепанными волосами пытался все-таки догнать нас. Потом он остановился на перекрестке дорог и долго смотрел вслед машине.
С озера налетели тучи; начал хлестать косой дождь. Машина виляла на скользкой дороге, и дождь стегал нас в лицо справа, слева, в затылок. Спортсмены притихли, плотно прижавшись друг к другу на двух скамейках, поставленных вдоль бортов грузовика, а я, подбрасываемый на ухабах, скользил между ними, с трудом удерживаясь на ногах.
Во второй или третьей деревне от города, мокрый, злой на себя, вылез я из машины и вошел в первые попавшиеся сени, пахнувшие молоком, свежей капустой. В избе никого не оказалось. Изба большая, с лавками по стенам. Пол поднят над землей метра на два с лишним, потолки высокие, окон много. Лесу тут вдоволь, строятся двух- и трехэтажные хоромины с большим приделом, в котором уместился бы кинозал из какого-нибудь колхоза Калужской или Тульской областей.
Я сушился на горячей печке, когда в дом явилась хозяйка с дочерьми.
– Льет? – спросил я с печи.
– Перестал, – ответила хозяйка, нисколько не удивившись моему появлению в ее доме. – Если тучи с озера – скоро проносит, а если на озеро – надолго зарядит.
Она с дочерьми принесла с болота полный мешок спелой клюквы.
– Ее там красно-красно, пригоршнями сгребали. Куда клюкву-то? А сдаем в магазин. Год от году дороже и дороже принимают. Нынче – по три шестьдесят за килограмм. Сколько? Да килограммов сорок принесли. Ходит народ, пока не шибко стынут руки. Принимают и бруснику и морошку.
– Одно плохо, – сказала беловолосая девушка, – змеи в болотах...
– Змеи тут водятся?
– В избе, в подполье живут, окаянные...
У хозяюшек моих городская внешность: в яркие ткани одеты, обувь дорогая. С печки я хорошо вижу ботинки и башмаки, в два ряда поставленные под лавкой.
– Этого добра столько забрасывают, что я туфли посылаю своим девчонкам и в Калинин и в Раменье.
Раменск под Москвой здесь перекрестили в «Раменье». Паруса на рыбачьих лодках хозяйка называет «парусьем».
– Чем же славится ваш колхоз? – спросил я, ожидая рассказа о хозяйстве, о трудоднях.
Проворно доставая горшки из печи, моложавая хозяйка ответила:
– Выставляем людей в Вологду по всем видам спорта. Игорь – штангист, первое место по области брал; Женька тоже гири ворочал, да в армию ушел и там гирями играет, а как вернется – снова всех городских зажмет; Юрка, машинист с косилки, – лыжник знаменитый... Кто еще у нас?
Дочери подсказали:
– Альберт.
– Какой Альберт?
– Да ну, с челкой до глаз, на цыгана похож! Ну и назвали же человека! – Беловолосая девушка засмеялась. – И Капитолина Круглова в Вологде от нас, мастер спорта, про нее часто в газетах пишут.
Хозяйка кивнула на младшую дочь с темной косой.
– В Белозерске первое место взяла, в Вологде – второе, да без локтей приехала домой: начисто кожу содрала... На самокатке не знаешь, где убьешься.
Сели за стол, к ухе из душистых снетков, до того прозрачных, что казалось, из стекла они вылиты. Весной и осенью большими неводами ловят знаменитых белозерских снетков. В старину весенние уловы снетка были настолько велики, что крестьянская семья снастью добывала его за путину до восьми–десяти тонн. Нежную и мягкую рыбу эту осторожно сушили в обыкновенных печах. В неурожайные годы из смолотого снетка пекли лепешки.
Разрезая белый объемистый каравай, хозяйка притворно жаловалась:
– Избаловались – за обед не садятся с черным хлебом, а уж про чай говорить не приходится: пирожки, печенье просят.
Дочь постарше сказала:
– У нас доярка за границу ездила, а потом печатали в районной газете путевые заметки ее, с предложениями...
Заговорили о председателе колхоза. Девушки засмеялись.
– Невидный из себя – толстенький, коротышка. Зимой в шубу нарядится – в «победу» не может влезть. Любой тулуп на нем в обтяжку.
Я заинтересовался председателем после того, как хозяйка сказала, что каждому в колхозе, кто работает, дается по четыре рубля в день, кроме немалого количества продуктов на трудодни, что доярки получают по шестьсот рублей в месяц и даже по семьсот. Это в лесной глухомани, на тощей земле. В старину-то, бывало, здесь, к ржаной мучке примешивали толченую кору, лебеду. Да что там старина – годов, поди, пять тому назад весьма скудно жили.
Утром я познакомился с председателем. Невысок, толстоват, глаза быстрые, живые. Он сразу достал записную книжку, заполненную цифрами, из которых легко было понять, что после сентябрьского Пленума ЦК КПСС, через два года примерно, колхозники стали получать на трудодень впятеро больше того, что получали до Пленума. Нынче доход четыре миллиона: два – от продажи льна и два – молоко, свинина, шерсть.
– Владимир Евгеньевич, вы давно работаете председателем?
– После Пленума.
– А раньше?
– Раньше – восемнадцать лет – секретарем райкома партии. – Он широко улыбнулся, спрятал записную книжечку. – В колхоз – по собственному желанию. Кто приходит сюда, – он указал на свой стул, – с партийной работы в село, тому не боязно.
На «победе» я возвратился к пристани Чайка, затем по Шексне поднялся до Белого озера в Крохино.
5. От озера до водораздела
Деревня Крохино – у входа в Белое. В старину здесь перегружали на озерные суда хлебные и другие товары с барж, поднявшихся по Волге и Шексне,– кипела бурлацкая и купеческая жизнь, но путь повернул в обходный канал, и село стало гаснуть: разорились купеческие династии, ушли бурлаки и матросы из Крохинского посада. Еще чуть не столетие тому назад в посаде начали ломать каменные палаты, хлебные амбары, причалы.
У берега покачивается брандвахта – несамоходная баржа, в сущности, двухэтажный дом, в котором живут рабочие землечерпалки, прокладывающие судовую трассу большого канала.
Командир земснаряда Алексей Дмитриевич Салов, затянутый в форменную тужурку водника, молод, но производственник он с отроческих лет; не расставаясь с брандвахтой, заканчивает речной техникум. В маленькой канцелярии, скрипящей на волне, Салов сразу становится важным, скупым на слово.
– За лето разработали Солодовские гряды. Так. – Алексей Дмитриевич подумал, покосился в окно. – Снимаем глубокий слой песка и глины. Имеем обязательство в честь съезда, успешно закончить к концу навигации прорез канала на четыре километра. – Помолчал, заглянул в бумаги. – Выполним. Соревнуются многие с нами, но мы уверенно держим вымпел.
Смотрим в окно: вдали, на воде, – земснаряд. Через двадцать минут поедут в озеро сменщики.
– Можно мне съездить?
– Не советую. Волна с песком, с глиной, даже с галькой – тяжелая, грубая волна.
Мне вспомнились рассказы рыбаков и рыбачек. «Поддень ведерко воды в шторм – грязи останется вершка на два». «Муж вывез меня на волну – чуть с ума не сошла». «Круто гнет парусье на сторону – воды бортом нахватаешь».
Я все-таки поехал на катере с практикантами из Ленинградского и Горьковского речных училищ; в комнатах плавучего дома видел я их за чертежами, за книгами, а теперь, одетые в спецовки, выросшие как будто вдруг, они готовы были в штормовую погоду стоять вахту.
Волны помешали вплотную приблизиться к бортам черпалки, к шаландам, и я не осмелился прыгать на них с катера, как это делали юноши. Позор, но куда деться от возраста? Зато на обратном пути, с другой командой, когда кипящие валы поднимали хвост нашего катера, вышел я из будки капитана и, держась за поручни, спустился на корму. Усталые ребята, тесно сидевшие на возвышении вокруг обширной трубы, удивленно посмотрели на меня, без надобности подставившего спину ветру и брызгам. Волна, крылом своим захватив часть кормы, поставила меня на колени, наказав за ненужное молодечество.
Остаток дня и ночь я сушился на печи в старинной крохинской избе, а утром на берегу, в будке оператора, слушал разговоры о затонувшей барже.
Седой капитан, с обвислыми щеками, в твердом новеньком картузе, говорил по телефону в Ленинград:
– В шестнадцати километрах от берега! Полметра воды на палубе – торчат нос и рубка. Людей спасли. Господи, если бы это пустая консервная банка, а то ведь пятьсот тонн груза. Она была на третьей чалке, под кормой проходила цепь от другой баржи – либо, значит, протерло дно цепью, либо долго стукалась носом в соседнюю баржу и достукалась до пробоины. Вызвал водолазов с брандвахты. Он? Здесь.
Трубку взял очень волновавшийся небритый капитан средних лет.
– Зачем пошел? – спросил он и нервно откашлялся. – А зачем посылали? Зачем давать прогноз три-четыре балла, когда на озере восемь? Каналом? Каналом я бы не провел такой воз. Пусть синоптик не вертится. Не философствует. Вывесил бы штормовой сигнал – не пошел бы! А чего теперь философствовать? Выпустил в озеро – нечего вертеться. Оставалось километров двадцать, когда баржи начали отрываться. Был бы ветер навстречу, нас обратно понесло бы, и все баржи разметало по озеру. Бакены снесло! – Положив трубку, капитан сказал товарищам: – Надо, говорит, водить каналом. Забивает словами. Если осень – то води каналом.
В операторской зашумели. Озером посылают, а как случится беда – почему не шел обводным каналом?
Конечно, каждому хотелось в озеро, а не в канал – идешь раза в три быстрее, поворотов нет, ну, простор, одним словом, не стукнешься о берега.
Не одно столетие купеческие баржи разбивались в озере, целые караваны терпели бедствие, а все-таки не любили и не любят отказываться от прямого пути здешние водники...
– Прогноз дан, – возмущался старый капитан, – а потом вдогонку тебе начинаются добавления к нему, а я уж на середине озера – что мне с добавлениями делать?
Под вечер сел я на грузовой теплоход «Сысола», идущий с бумагой из Рыбинска в Ленинград. Вскоре на озере увидели мы три кораблика, носами стоящие друг к другу, а между ними две черные точки от затонувшей баржи. Людей не видно, и создавалось впечатление, будто кораблики обнюхивают жертву озера.
– Везем груза четыреста тонн, – рассказывал капитан теплохода Борис Филиппович Иванина, уроженец города Сумы, заканчивающий двадцать пятую навигацию, – а когда будет построен канал, мы поведем здесь и судно другое, и груза возьмем при той же команде в пятнадцать–двадцать раз больше. А сейчас никому не охота огибать озеро. По прямой пройду в четыре раза быстрее, чем по каналу. Это древнейший путь.
– Прежде баржи с грузом от Рыбинска до Петербурга шли по полтора-два месяца, сколько же времени идут теперь такие вот теплоходы? – спросил я капитана.
–. Дня четыре, но как только снимут тридцать восемь шлюзов и поставят девять, в два с половиной дня уложимся. А таких случаев с большими судами, – он кивнул в сторону затонувшей баржи, – не будет.
За озером – река Ковжа.
Утром вползли в старый деревянный шлюз и остановились в такой тесноте, что с любого борта ребенок мог перешагнуть на бревенчатую кромку шлюза. Это был водораздел между Черным и Балтийским морями. Сзади остался очень покатый спуск к Череповцу, а спереди был очень крутой – к Онежскому озеру, к Балтике. Борис Филиппович, расставаясь со мной, сказал:
– Остаетесь на горе – сто двадцать метров над уровнем Балтики. На Девятинском перевале насмотритесь на все чудеса Мариинки.
Из операторской по телефону он говорил в Петрокрепость, что везет бумагу в разные адреса, и необходимо предупредить получателей, чтобы они в кратчайший срок опорожнили теплоход. Я вспомнил рассказ престарелого шкипера Матвея Егоровича Новикова: «По месяцу, а то и по два стояли в Питере с товаром – зерно за дорогу отсыреет, затхлое станет, и никто не берет его. Купчишка мечется по Питеру, как ошалелый, хлеб за полцены согласен отдать, а суденышко – на слом».
Проводив теплоход из шлюза, пять женщин пришли в операторскую завтракать – ели горячую картошку из кастрюли, струившей пар. На плите клокотал пузатый чайник, пахло свежей заваркой.
Началась утренняя пересмена. Отдежурившие восемь ночных часов сдавали дневным не только шлюз, его деревянные вороты, но и кастрюльки, чашки, ложки, ножи, сахарницу, ведро.
6. У водораздела
Инженеру Юрию Викторовичу Дмитриеву двадцать семь лет. Он коренаст, широк в плечах; ладони жесткие, в ссадинах. Еще будучи в средней школе, начал работать грузчиком, был грузчиком и когда учился в институте. Из Ленинграда послали в Вытегру на ответственный пост, но попросился на канал.
– На брандвахте у меня суровый закон: пьяных не должно быть. С неисправимыми пришлось расстаться. Что у меня самое главное? – Он смотрит мне в глаза, как будто я должен догадаться, что у него самое главное, и сказать об этом. – Люди. Характеры. Душа человеческая – вот основное и на земснаряде, и на заводе, и в колхозе... Смирнов был у нас – только и целился сшибать верхушки, прятаться за чужую спину. Матросы поедут якорь переносить, а он сидит-посиживает. Лодырь высшей марки. Пришлось уволить.
Потом он заговорил о себе.
– Стал я ее просить, а она не захотела. – Он, видимо, продолжал вслух свои мысли.
– Кто?
– Жена. Разошлись по идеологическому вопросу.
– По идеологическому? - насторожился я.
– А как бы вы сказали? Ей – жить в большом городе, а мне в лес, в болота, на канал хочется. По-моему, тут идеологическое расхождение. – Он вздохнул,
– Дети есть?
– Да вот в том-то и дело – сын. Пытаюсь вернуть семью, но пока безрезультатно.
Я заметил на столе пепельницу из глины – еще не сработана до конца, но в двух матросах, стоящих на ее высоких краях, угадывались энергия, сила.
– Да нет, не очень это хорошо. – Юрий Викторович поморщился. – Анатомию не знаю. Увлечение самоучки.– Он раскрыл большой альбом с рисунками карандашом.
Судить о мастерстве скульптора и живописца Дмитриева не берусь, но в альбоме увидел я его товарищей по работе. Вот Борис Быков, первый помощник, вместе с матросами занят перекладкой якорей, натягивает трос – ветер распахнул его стеганку, треплет волосы, но Быков, занятый делом, уперся крепко в чугунную тумбу.
– Верно подмечено, – сказал сам Быков за моей спиной. – У Семки только ноги длинноваты да штанина чересчур захлестнулась.
Быкову тоже двадцать семь. Зимой – в техникуме, летом – на канале, а в прошлом – плотник. Богатырски сложенный северянин с огненной шевелюрой.
На следующих листах – матросы, прораб, старая-старая часовня, газету читают в обеденный перерыв, сказку слушают у костра, пристань, река Свирь, берега Онежского озера, стожки сена, похожие на шапки, уборка урожая на взгорье, старые шлюзы на Девятинском перевале.
– Если их не сфотографируют, – сказал Юрий Викторович о шлюзах, – то рисунки мои, хоть и плохие, останутся памятниками – Мариинка прослужила народу сто шестьдесят лет.
Иду в лес.
От Ковжи, соединенной на водоразделе с Вытегрой, четыре снаряда рыли канал по древнему искусственному руслу, заброшенному лет семьдесят тому назад. Ход, заросший кустарником, осинами, елями, едва угадывался по отлогим берегам. Лесорубы и тракторы готовили путь для снарядов, снимая вековую тайгу там, где новое русло канала не совпадало со старым. Я шел мимо болотистого поля вырубками, до того густо покрытыми крупной клюквой, что она казалась посеянной здесь. Брусника, клюква, рябины в ягодах, осинник, березки, словно застыдившиеся своего багрянца,– все это было так ярко под чистыми небесами... Я вздрогнул, испуганный, застыл на месте – зашевелился пень! Людей поблизости не было, а старый пень, обросший мхом, зашевелился, точно Змей-Горыныч из народных сказок. Вот он склонил свою голову, и корни его, еще не обессиленные давнишней смертью, подняли за собой толстый круглый щит налипшей земли. Пополз, поехал чудовище-пень, сокрушая все на своем пути. Я побежал за ним, чтобы узнать, какая же сила потянула древнего старца, и оказалось, на шее у него была стальная, крепко захлестнувшая петля, концом уходившая далеко в лес. Всесильный мотор тащил этого дядю, прочно угнездившегося в земле. Мне вспомнилось детство: покорчевал я их, такие пни, вдосталь помаялся. Бывало, сперва обрубаешь корни вокруг него, топор быстро тупится о землю и о корни, крепкие, точно кость. Рубишь, рубишь – сил нет! Подпалишь его вместе с кучей хвороста. Хворост сгорел, а пень остался, словно чугунная болванка. Беремся за дело вместе с отцом. Лошаденок впрягаем. Постромки рвутся, ноги дрожат у потных лошадей. Вороны, каркая, кружатся над нами. Мы чуть, не плачем с отцом – пашня нужна, а пень мешает. Выволочем окаянное чудище, но плуг не проходит в почве, переплетенной корнями. Отец гонит меня от плуга – отдохни, мол, немного, а я кнутом по лошадям, наваливаюсь на плуг, топор хватаю – и по корням, по корням, а потом снова за кнут. Э, кони, кони, друзья мои милые, страшен был человек, хозяин, до крови арапником обдиравший костлявые ваши хребты, чтобы вспахать в лесу какую-то осьмину неплодородной землицы!
...Вхожу в светлый дом на горе. Парень в боксерских перчатках дубасит по мешку с опилками, подвешенному к потолку. Полный мешок опилок, а из устья сено торчит. Азарт у парня такой, что мешок летает на привязи.
– А на канале что делаешь?
– Электрик –силу там не истратишь. Окончил Московский железнодорожный техникум имени Дзержинского. Москвич.
На столе книжки Алексея Толстого, Овечкина, М. Кольцова, трубка, рассыпанный табак, стихи на листках из тетради. Читаю:
Земснаряд
Ревет, гудит, визжит мотор,
Вращая вал огромный.
Где мы пройдем – вода, простор,
Бегут, резвятся волны.
Пройдем по торфу, по песку,
По глинам и суглинкам.
Пророем мы канал-реку
В нелегком поединке...
– Вы поэтов больших знаете? – спрашивает он. – Возьмите мои стихи, дайте им почитать. Тут у нас медвежье царство. Шумел я – организовали кружки: струнный, драматический. Кино два раза в неделю... На весь поселок одна девушка, да и той года двадцать четыре. А мне – девятнадцать. Мог бы в Москве остаться. Жениться надо. Кроме смеха! – Он толкнул опять мешок с опилками. – Ружье вот купил. Если бы Петр Первый канал не строил, я бы не жил тут...
Недалеко от поселка, в котором живет этот парень, на широком постаменте стоит обелиск с надписью: «Зиждитель пользы и славы народа своего Великий Петр здесь помышлял о судоходстве. – Отдыхал на сем месте в 1711 году. Благоговейте, сыны России! – Петрову мысль Мария совершила. Начат сей канал 1799 года по повелению супруга Ея, Императора Павла!..»
С высокого берега долго добирался я до единственной девушки поселка. Двое влюбленных в нее недавно уехали; третий, по рассказам прораба, настрадавшийся, тоже просит расчет. «Выходила бы скорее замуж – нам бы спокойнее». Какова же она? Искал к ней тропу с откоса, заросшего редким сосняком, осинками. Густой, мягкий мох, цветом похожий на белую степную полынь, пружинил под ногами. Вместо тропы попалась рыжая труба диаметром немного поменьше пароходной, влево она уходила в лес, вправо спускалась к болоту. Пошел по трубе, приподнятой над кочками. Через трубу лилась от земснаряда жидкая земля – пульпа. Миллионы кубометров земли, вытянутые из-под срубленных лесов, уйдут жидкой кашей через эти трубы, чтобы освободить место для канала. Казалось, легче фокуснику в цирке скользить по гнущейся стальной ленте, чем балансировать по этой мокрой трубе, рискуя свалиться в болото. Ни клюква, ни осока, ни пушица с белыми волокнами цветков, напоминающих малюсенькие флажки, ни ядовитые хвощи, ни плаун, из которого народ добывает желтую краску,– ничто не привлекало моего внимания, сосредоточенного на трубе.
У нивелира с треногой стояла девушка в резиновых сапогах, до половины голенищ погруженных в болото. Широко расставив локти, черноокая украинка глядела в окуляры на женщину с рейкой, находившуюся метров за полтораста от нас, и заносила цифры в тетрадь
– Слежу за трассой, – деловито объяснила она.
– Это, должно быть, очень ответственно?
– Не очень. – При улыбке круглые щеки ее стали еще круглее, веселые темные глаза еще веселее.– Я только слежу за правильностью выполнения гидропроекта. Зовут – Ольга. Ольга Петровна.
Нет, на Волго-Доне она не работала – еще не старуха, но в Казани была с таким же вот нивелиром, так же размахивала руками, отчеркивая берега будущего моря.
Ветер прошел над хмурым лесом. Ольга, склонившись к трубке нивелира, начала махать своей тетрадкой женщине с полосатой рейкой.
– Люди жили, а поэт наш говорит – невозможно жить. Пробирайтесь к земснаряду по кочкам, вон к тем сухим березкам – повыше место.
Черпая башмаками воду, я добрался до крутого обрыва и далеко внизу под собой увидел земснаряд. К нему примыкала уже известная мне рыжая труба, тянувшая в себя жидкую землю. Людей на снаряде не видно. Да и много ли там людей! Два матроса, электромоторист, механик в машинном отделении, начальник смены и человек у гидромонитора. Я уж наслышался об этом самом гидромониторе, исключительно важной принадлежности снаряда, и рисовался он в моем воображении сложным чудовищем, а между тем с виду он очень прост – похож на брандспойт, из которого московский дворник в жаркий день поливает улицу. Только струя из монитора несравнимо более мощная – мельчит она двухметровую залежь известняка, прослойку глины и пласт торфа, нависающий над земснарядом. Она, эта струя, и делает жидкую кашу из земных пород, отправляемых затем по трубе километра за два в Маткозеро.
– Неужели весь канал пробивают этим способом? – спросил я начальника земснаряда Файзулова.
Файзулов, черный, с роскошными бровями, в брезентовой спецовке и резиновых сапогах, показал на пласт чистейшего торфа.
– Болото! Здесь нельзя поставить экскаватор.
– Жаль торф.
– А что сделаешь? – Файзулов развел руками. – Он кое-где идет стеной метра в три, когда отклоняемся от русла старого канала. Топливо? Тут дрова некуда девать!
– А удобрение колхозам?
– Вот на удобрение-то можно бы, да их сюда не заманишь, колхозников... Вот и размываешь его в порошок...
– Ну, а если бы здесь поставить заводик по переработке торфа?
– И так – беда, а заводик поставят – десять бед! Скажут: постой, погоди, мы сперва торф уберем...
Неотрывно смотрел я на злую белую струю воды, хлеставшую по торфу. Тяжко здесь прокладывать канал, ведь заодно с торфом, с землей к снаряду обрушиваются многометровые корни, камни.
– Главное не тут,– сказал Файзулов, – главное – шлюзы, бетон и железо! Каналы копать при нашей технике – не задача: не возьмем водой, возьмем взрывчаткой...
Я выплеснул воду из башмаков, досуха выжал носки, обулся и берегом канала, перескакивая через трещины, образовавшиеся как бы после землетрясения, пошел к рыжей трубе, чтобы по ней вернуться обратно.
Все-таки я увидел здесь и экскаватор. Щелкая железными челюстями, он глубоко зарывался в землю стальной мордой. Поворчит, поищет что-то зубами – поднимает старые бревна, чурки, доски шлюза, сохранившиеся под корнями деревьев.
– Вот сколько годов минуло, а брусья из-под земли от старого шлюза целехоньки – лучина отдирается на растопку, – рассказывала мне в своем домике хозяйка моя, Александра Агафоновна. – Папа Агафон Гаврилович Гаврилов, царство ему небесное, двадцать три года царю отслужил, с турками воевал, а потом поваром был у офицеров, когда тут шлюзы строили, а потом с конем, зачаливался под баржи...
Незабываемы беседы со стариками.
По берегам больших рек в старину тянулись бечевники – широкие полосы земли для нужд судоходства; на такой полосе, выбитой лошадьми и бурлаками, дед с бородой, яркой, как солнце, похожий на проповедника, говорил мне:
– Ленин первый услышал от земли нашей: «Освободи ты меня, батюшка, дай мне вздохнуть, несметная сила во мне придавлена». И он призадумался, припечалился вместе с честными людьми, а потом и освободил ее, землю, и народ лямку сбросил. Против Ленина любой маленьким кажется.
Парень, глаз не сводивший с рассказчика, спросил:
– Кем ты был?
– Я? Шкипер. Двадцать пять лет ходил на белозерках да на коломенках при старом режиме, да тридцать лет – при новом. Еще походил бы, но слушать не стали охальники вроде тебя. И взял я пензию от Хрущева за старый режим и за новый.
Другой, восьмидесятишестилетний старик, Матвей Егорович Новиков, тут же, на берегу, вспоминал:
– С двенадцати годочков я на баржах. Шкипер кричит бурлакам: «Пряжка! Матвейко, вари обед!» Ершики сушеные, каша пшенная с постным маслом. Наелись – в новую пряжку. Часа два прошло – шумят тяглецы: «Шкипер, вынеси хлебца скибку!» Дашь по ломтику, пожуют – опять пошли. Умер детина в хомуте. Выпотрошила его комиссия – семь фунтов каши съел, дорвался голодный, а она разопрела в желудке. Я мальчиком был при бурлаках. Вечером не с одного судна соберутся у костра. Сказки, песни про Волгу и Каму. И отец всю жизнь на судах. Вино пил отец, а я вино не пил. Наша первая изба стояла у озера. Два дома сломало волной, волна железо ломает. Избы нет. Задумал я разбогатеть и уехал на Обь-реку. Год прожил в Сибири, сам себя потешил и вернулся. Ходил на парусах, мачта в десять сажен. Ветер пошел – поскорее бы пробежать озером. Ветер пал – якорье положили, стоим. При этой власти на озере фонари, путь и ночью обозначен, а при той не было. На эту я не обижаюсь. Девок при этой выучил – все в Питере, и все, ведьмы, не помогают отцу. Я каждое судно для Советской власти берег – на зимовку снасти смеряю, проверю, воду откачаю. Шесть девок выучил. Скажи ты, пожалуйста, откуда такие ведьмы берутся? Спрятались девки в Питере, копейки не дают.
Не терпелось на бурлацком взгорье третьему старичку – скороговоркой спешил вмешаться в беседу:
– Тоже, батюшки, и купеческая жизнь была нелегкой. В привычку вошло оглядываться да в купца плевать, а маялся и он, грешный. Плывут баржи Охлобыстина, Жеребцова, Милютина – все ворота открыты, а тащится мелкий купчишка – у каждого шлюза рогатки: и подходящих лошаденок в тягу не зачаливают, и лоцман где-то загулял, и солдату из полицейского надзора полтинник дай. Шлюзовые куда-то ушли. Не поскупится купчик – шлюзовые придут. Лавочник тоже страшный вредитель, он спит и во сне видит: сломайся шлюз, остановятся баржи, погуляют денька два в моем кабачке матросы. Судоходный надзор останавливал, когда ему вздумается и где вздумается. Мала взятка унтеру – слышишь крик: «Подбирай бечеву! Кони вычаливаются!» А купец мечется: «Милые, ребятушки, время-то дорого мне, ждут меня с товаром!» Общипанным доберется до Питера барышник, хоть сам потом запрягайся в лямку...
– Ой, да кого ты жалеешь! – перебила рассказчика Александра Агафоновна, прибежавшая на набережную позвать меня к обеду. – Меня слушайте. В девятьсот пятнадцатом за сутки по шестьдесят судов пропускали через шлюз, а теперь двадцать пропустят – и на Красную доску записываются, а тогда ее не было, Красной доски, и рукавиц не давали – голыми руками хватались за мокрую чалку. Не попадало что-то мне взяток от купцов. Сутки маешься, да сутки отдыхаешь, а ноне три смены, да начальник шлюза – ему совсем нечего делать, только два раза в месяц за полчаса ведомость составляет на зарплату. Барином прилип к делу. Тошно смотреть – обленились у казенного каравая! Про нас бы вспомнил, а то купчишка на уме.
7. Спуск с высокой горы
Долго еще с парохода виднелась косая черная избушка Агафоновны на зеленом остром бугре, около зубчатой кромки темного леса.
Через семь километров начнем круто спускаться вниз к уровню Балтики, но эти семь отличаются от всего пройденного и будущего пути. Шестьдесят пять лет тому назад кайлом и ломом пробили здесь канал в сплошном камне между Ковжей и Вытегрой. Встречаются по отвесным берегам подмостки, с которых камень грузят в баржи. Трехтонка, прочно зацепившаяся колесами за обнаженные корни сосны, повисла над водой, как игрушка. Кудрявый молодец в рваной тельняшке понуро стоял у машины, чуть ли не всем кузовом повисшей с каменного обрыва.
Ехавший на пароходе подросток – толстогубый, курносый, в измятом картузе, – плюнув за борт, сказал о шофере в тельняшке:
– Ванька Соколов. Тормоза давно не дюжили у Ваньки Соколова. А спидометры он сразу сорвал – надо шельме калымить направо и налево.
Старый цыган, сидевший в проходе на четырех хомутах, как владыка на троне, сказал про Ваньку Соколова:
– Испортился народ.
Я спросил цыгана, откуда он везет хомуты. Цыган, сохраняя достоинство, с пренебрежением покосился на мою шляпу.
– Не воруем, батюшка. Это вам, извиняюсь, летят в рот жареные куропатки, а нам не счастливится. Три колхозу связал за сто пятьдесят целковых, а четыре везу на базар. – И долго смотрел на осенний лес под солнцем, на пестрый кустарник, а затем неожиданно воскликнул: – Жар горит, братцы! Осина-то, осина разыгралась!
Миновали яркий осинник, темный бор; по низинке – сплошное поле серо-зеленой осоки, кривые березки, еще в детстве погибшие, ветвистый, похожий на ленты, ежеголовник, очеретник белый, любитель торфяных болот, какие-то широкие листья, точно красные языкастые флажки, почерневший стожок сена с нахохлившейся птицей на острой макушке, и прямо по болоту – валуны лысоголовые, обточенные еще Скандинавским ледником. Вот остатки сгнившего мостика, по которому шел бечевник.
На Девятинском перевале пароход начинает круто спускаться со ступеньки на ступеньку – из шлюза в шлюз. В широкой раме синеющих гор, покрытых лесом, с палубы далеко заметны водные площадки одна за другой, как ступени громадной лестницы. Вспоминается Южный Урал где-то у Златоуста, но только без труб и дыма.
Пароход сел в полный шлюз, выпустили воду из шлюза древним способом в другое хранилище, пониже, продвинулся метров на двести и снова начал садиться до уровня следующего шлюза. И опять наваливаются женщины на рычаги скрипучего ворота, чтобы открывать и закрывать заслонки в деревянном дне. Тесно судну в бревенчатых ложах, до того тесно, что на пузатых боках его понавешены предохранительные бревна, порядочно изношенные от частых соприкосновений со стенками шлюзов.
У Девятин капитан, перешагнув с борта на шлюз, ушел в село, а мы поплыли без капитана. Протащились еще через два корыта, капитан вернулся к нам с берега, бросил на палубу покупку – кирзовые сапоги, связанные за уши веревочкой, и снова отправился в село. Вскоре капитан шел берегом вслед за своим пароходом, по древнему бечевнику, под руку с женщиной. Чудеса! Плывет судно по реке, а капитан по берегу прогуливается, появляясь то впереди него, то за кормой. Официантку из нашего ресторана увидел я далеко на берегу – лузгала семечки на скамейке. Даже в старину пассажиры, потеряв терпение, расставались здесь с пароходом, пешком уходили в Вытегру или уезжали на почтовых лошадях. Опустела и наша палуба – народ перебрался в автобусы, в попутные грузовики. Остался цыган с хомутами, женщины с бочками огурцов и я. Цыгану хомуты мешали перебраться в автобус, торговкам – бочки, а мне – обязанности журналиста.
В одном из шлюзов женщины увидели за бортом на площадке своих белозерских землячек, возвращавшихся из Вытегры с пустыми бочками. С палубы губастая тетка в полосатой шали, похожей на одеяло, закричала своим приятельницам:
– Огурцы-то просят?
– Просят! – ответили ей.
– А почем берут?
– А по четырнадцать за кило...
– Да но-о? – Тетка сдвинула шаль со лба. – В магазине-то нет, что ли?
– В магазине мясо есть! Не забудьте взять – тоже по четырнадцать за кило...
Старуха, на палубе стоявшая рядом со мной, вопрошала визгливо:
– А морковка пойдет?
– Морковка не пойдет!
– Не просят, что ли?
– Привезли морковку в магазины!
– А лук?
– Белый просят – подавай только, а красный не просят.
– Дак с морковкой как же? Мешок ее везу.
– А не продашь. Мы два дня промаялись с морковкой. Цыган, подмигнув мне, сказал:
– Идолы.
– Кто?
– Начальство в Вытегре. Сельпо не берется торговать огурцами и луком, а белозерская баба смело едет с огурцами. Баба оборотиста, а чиновник на жалованье – в рот жареные куропатки! – Цыган оглянулся на свои хомуты, вздохнул.
По прибытии в Вытегру зашел я к работникам райпотребсоюза: возмутительно ведь – огурцы в одной цене с мясом! Липы дородные шумят листвой по улицам Вытегры. Почему же огурцам не расти? Службист с карандашом за ухом, играя костяшками счетов, лениво указал головой в окно на райисполкомовский дом.
– От них зависит.
– Почему от них?
– Потому что на месте не решали проблему огурца. А нам несподручно ехать за сотни километров сватать эту овощ, как невесту.
8. Шоферы
До революции Вытегра – столица Мариинской системы, дворянско-купеческое гнездо. Герб города – судно с распущенными парусами. Здесь жил начальник правления округа путей сообщения; чуть не под окна его кабинета спускались баржи с Девятинского перевала.
В Вытегре, как и в Череповце, Белозерске,– старинные каменные дома на непоколебимых фундаментах, с толстыми стенами, сработанными навечно. В домах по набережной – контора стройки Волго-Балтийского пути, здание райкома, почта, магазины, большой клуб речников.
Ранним утром со всех улиц на разводной мост собираются коровы с колокольчиками на шеях. Город – в звоне колокольчиков.
Ушли коровы с улиц на пастбище, появляются «МАЗы» – большие, угрожающе гудящие грузовики; земля под ними дрожит, оконные стекла в домах позванивают. К одному шлюзу, что строится рядом с городом, «МАЗы» везут песок, к другому – в Белоусово – возвращаются с глиной. Порожняком пробега нет.
Я ехал в просторной кабине грузовика. Дорога трудная. Чтобы в кабине головой не стукаться о потолок, я крепко, обеими руками, держался за скобу впереди себя. Спичку зажечь хотел – подбросило меня с подушки к потолку. Шофер, парень с румяными щеками, остановил своего великана, сказал:
– Дороги надо сперва проложить, а потом браться за стройку. На собраниях поют: приканальная дорога будет, бетонная, шестиметровое полотно от Вытегры до Девятин – сорок четыре километра. Когда же она будет? С будущего лета начнут ее строить. А почему с будущего? С нее бы и начинать года три назад, и шлюзы нам обошлись бы раз в десять дешевле! Прошел дождик – неделю стоим! Ее, окаянную, каждый месяц улучшают – камень кладут. Но я спрашиваю, зачем настилать камень, когда прочной подошвы нет? Камень на глине пружинит под моим грузовиком, он же тяжелый, как паровоз. Ее улучшают, а она все ухабистее и ухабистее. Вы не из главного управления?
– Нет.
– Не ревизор?
– Нет.
Шофер помолчал.
– Если бы знаменитый наш Главморречстрой из собственного кармана тратил денежки, он бы дело с хорошей дороги начал, но денежки – из народного кармана, и ему все равно, с чего начинать, лишь бы топтаться на месте... Я не злой. Я за правду стою. Третий год работаю здесь, и если я не скажу правду, кто ее скажет?
На горке, слева от нас, появилась бревенчатая хилая часовенка. Тут будто бы встречался Петр Первый с местными жителями. Петербург начали закладывать на болотах в 1703 году, а в 1710-м по приказанию царя к вытегорцам приехал англичанин Перри, искавший водный путь от Волги к будущей столице. Через год сам царь появился на вытегорском погосте.
– Был он мужик с головой, – сказал шофер о царе, – города еще нет, а ему дорога нужна к городу от самой середины государства. На том вон бугре, где часовенка, рассказывают – Беседная гора: вышел он к народу. Бородатые старики исподлобья зверями смотрят на бритого царя. А он с характером, он первый говорит им: «Вы тигры!» Она и получилась Вытегра с тех пор.
Поблизости от строящегося канала мы проезжали мимо двадцатиглавой церкви на вытегорском погосте, построенной примерно двести сорок лет назад. Деревянная, сработанная без единого гвоздика, она не покосилась, не приуныла еще. Двадцать маленьких куполов, очертаниями похожих на луковицы, расположенных на разной высоте, ступенчато группируются поверх крыши и стен; ниже куполов – шейки их, затем двух- и четырехскатные, словно игрушечные, крыши, незаметно переходящие в стены, а уж по стенам легко угадывается крепкий сруб самой обыкновенной северной избы. Изящная, легкая, веселая, из колыбели самобытной русской архитектуры, созданная только топором мужика, церковь эта в стране имеет единственную сестру свою – в Кижах на Карельской земле.
– Музей? – спросил я.
– Ага, ключ у председателя сельсовета. Дает. Внутри ничего выдающегося: плоский потолок, как в доме. Ангелы с крыльями нарисованы, иконостас. И вот, понимаешь, диковина какая – каменный фундамент крошится, а бревна не трухлявятся. Ее убрать от дороги бы, а то растрясем грузовиками... Ну, побывал он – царь, значит, – за Девятинами, за Рубежами и этим же путем торопился обратно. Ямщики лошадей не подают, а у него со шведами неполадки – минута в цене, а горяч был. Тут, в общем, по деревням рассказывают... Может быть, неправда... Старик заспорил, царь выхватил саблю, а из-за спины старика вывернулся парень – сын его... Отсек парню голову. Ну, что делать? Приказ: ставьте церковь на этом месте! Сколько парню годов было? Двадцать? Делайте у церкви двадцать глав! Она, значит, на крови на крестьянской цвела, не старилась...
Спустились в лощину, затем натужно поднялись в гору и по свежей насыпи стали съезжать к Белоусовскому шлюзу будущего Волго-Балтийского пути. Шлюз в глубокой яме поражал размерами – был он похож на очень длинный, примерно семиэтажный, еще недостроенный дом без перегородок внутри. Трехэтажная высота железобетонного гиганта будет зарыта в землю, подвозимую сюда, этажа три скроются под водой, и один только останется на поверхности, да еще возникнут будки, в которых спрячутся механизмы.
Шофер, ссыпав глину из самосвала к голове шлюза, указал на фундамент.
– Под нами два этажа, считайте. Поработано, слава тебе, господи. Канал рыть – пустяк в сравнении с постройкой шлюзов. Одной глины знаешь сколько свалим к нему со всех четырех сторон? Подушка называется! Гора кавказская, а не подушка!
Тон задают на стройке, сказал мой спутник, шоферы, экскаваторщики, трактористы, бетонщики. Он гордился своей профессией – недавний солдат, очень моложавый, лицом похожий на девушку; его большие светлые глаза с мягким блеском любовно оглядывали высокие стены шлюза.
Он поехал за песком для второго шлюза, а я поднялся в диспетчерскую будку автобазы и спросил у диспетчера, как работает Владимир Лущик.
Человек семь испытующе, с любопытством, дерзко даже смотрели на меня – зачем это понадобился мне Владимир Лущик, для чего я допытываюсь, кто он, где работает. Один из них, с лицом желтым, изъеденным оспой, спросил:
– Предполагается написать о Лущике очерк в газету. Верно?
– Допустим...
– Не «допустим», а верно. Наговорил вам о Володьке парторг, да вы посмотрели еще на Доску почета. Секретарь комсомольской организации, принят в кандидаты партии, проценты самые высокие – как приедут к нам из газеты, так первым долгом торопятся к Лущику.
Коренастый парень обхватил в поясе вместе с руками разговорчивого молодца с желтым лицом и понес из диспетчерской, а тот, сдавленный, болтая ногами, старался высвободиться из его объятий.
– Дайте высказаться! Ну дайте же высказаться!
– Ну, так и быть, – мирно ответил силач, – махни речугу.
– Итак, товарищи,– полушутливо сказал шофер с желтым лицом, изображая оратора. – Мы тоже демобилизованные из армии, как и Лущик, приучены к дисциплине... Да заведись хоть бы один среди нас лодырь, жизни ему не стало бы – гнали бы его, как паршивую овцу. Вот перед нами Ян, граждане судьи. Он второй год без ремонта работает на своем бульдозере, и проценты, заскакивают за проценты... Но и Лущика никто не похает – язык не повернётся назвать Володю плохим работником, только Володе третий раз за год дают новую машину, а Ян еще два года проработает на старой. Привозят из Минска партию машин – пожалуйста, Володе, и он не оглянется на ту, с которой ушел. Он опять, как говорится, ездит без сучка и задоринки. Стройке герой нужен. Вот и вы приехали к герою.
Коренастый спросил:
– Кончил? Можно выбрасывать тебя за дверь?
Смех смехом, а шофер правду сказал. С десяток водителей за год с небольшим по третьему разу сели на новые «МАЗы», зато приехавшему новичку дают всегда старую машину, будь он прекрасным водителем, и забывают о нем, если он еще два года без ремонта ездит на древнем грузовичке.
Часом позже, у церкви, ждал я Лущика на дороге – сесть к нему в кабину. Шоферы стройки охотно берут попутчика – пятерка не помешает. Увидев уже известный мне номер на борту грузовика, я поднял руку, но Владимир не остановился.
Взял меня грузовик, идущий за ним.
– Лущик проехал? – спросил я шофера.
– Лущик. Одиннадцатым рейсом идет.
– А вы?
– Десятым. Ездит не быстро, а никто его, черта, догнать не может. Не в том дело, что новая машина. У многих новые – плакаться нельзя, моя тоже...
На следующий день я обедал в семье шофера, с которым сделал первую поездку. Живет он на горе в новом доме – три комнаты, кухня, кладовка, чуланчик. За столом разгорелся спор между супругами: здесь жить им, когда канал построят, или уехать. Он: ко мне, в Смоленск! Она: нет мест лучше наших! Он стал северян хаять, она – смоленских. Он возмутился, сказал, что после сентябрьского Пленума в смоленских деревнях жизнь стала много лучше.
– Ты же сама там была!
– Не отказываюсь, была... В последние два года денег получают по многу тысяч. Дома ставят, не охают и не стонут. С Пленума они пошли и пошли... – Но свела разговор мало-помалу к тому, что близ Вытегры жить все-таки веселее. – Глянешь с бугра – Никольская гора, да Барская гора, да гора Алексеевская. Садись в беседку отдыхать да поглядывай на холмы, деревеньки, на канал. Сам говорил: история, царь Петр на Беседной горушке отдыхал. Никуда мы не поедем! – Она улыбнулась, кивнула на детей, запрягавших кота в тележку.
– А в Смоленске мало истории?
Спор закончился мирно – теперь всюду неплохо живется.
Во многих семьях вытегорских строителей, женившихся на северянках, затеваются подобные споры – скоро проложат глубокий корабельный ход нового пути, и шоферы задумываются: в Смоленск ли уехать, в Курск ли, остаться ли в северных лесах?
9. У первого шлюза
Прошу прощения у читателей – небольшой рассказ об охоте на медведей вынуждает меня на минуту вернуться к деревне Крохино, расположенной у истока Шексны из Белого озера.
В Крохине, где, по преданию, был древнейший Белозерск и правил в нем будто бы Синеус, Рюриков брат, проснулся я утром в большой избе, глянул на корзину со свежей рыбой, на косматое пламя в печи, на половики в пестрых полосках и почувствовал себя дома, в детстве.
Простоволосая хозяйка, в сапогах, чистила живую рыбу. Зажмет крепко в кулак щуку, стукнет ее головой раза три о край стола, потрошить станет, а щука опять бьется, рулит хвостом, вырывается из рук.
Девочка на лавке заплакала:
– Мама, не колоти рыбку!
Пополам разрезаны рыбы, а подскакивали и бились еще в чугунке, когда хозяйка на ухвате несла его к печи.
– Отскакались, – сказала она сердито в печь, – там не разгуляться. – И обратилась к хозяину, лежавшему на печи: – Народ ныне совсем разбаловался. Какой ты мужик, если медведя испугался? Легче стало жить, нищего не увидишь, вот и медведей забоялись. Да в ём центнер, а медвежатину в Белозерске на базаре продают по двенадцати рублей за килограмм!
– Не грызи ты меня, – ответил хозяин с печи, – глупая. Их трое было, а я один.
– И стрелял бы в троих!
– Иди сама стреляй...
Овес у белозерцев созревает под самую осень, даже в сентябре он впрозелень. Медведи ходят на сладкий овес у кромки леса – загребают лапами, сосут колосья; изомнут, истопчут, убирать нечего. Хозяин с вечера забрался на суковатую сосну среди овса и терпеливо ждал медведя. Где-то около полуночи зашумел зверь, завозился. Хозяин выстрелил. Но медведей оказалось трое, и они шарахнулись к сосне; перепуганный охотник свалился с дерева и побежал домой без оглядки, а медведи – в лес. За это хозяйка и ругала мужа, лежавшего на печи.
Хозяин ответил:
– Ты хоть бы человека постыдилась... Со стороны подумать – голодная из голодных. Рядом рыба, покос, грибы, ягоды, работа на шлюзу, а тебе еще медведи нужны...
В Белозерском и Вытегорском районах вдоволь наслушался я разговоров о медведях. «Овес истоптали, мох изрыли – тащат в берлогу». «Вышел я на опушку, а он по бечевнику тяжело ступает, как бурлак. Стреляю – заревел, слышь, как будто лямку на его накинули». «Уселся между камнями да с высоты и поглядывает на земснаряд, на трубы – тоже интересно. – Мишка! Это что за смелость? – А он шарахнулся в кусты, след свой устряпал».
– Она за дело пилила его, – сказал мне потом один вытегорский охотник. – Срамота: упал с дерева. Другие с ружьем садятся прямо в овес. У меня так заведено: я на дерево, а по-нашему, на лабаз, на сучья залезу, а ты с песнями уходи от меня, чтобы слышал он – убрался человек. А то подъезжаем двое к дереву верхом на лошадях, я прямо с коня – на лабаз, на скамеечку, а ты с лошадьми – долой, чтобы кони были да ушли, а человеческого следа нет. Мой внучек четырнадцати лет с лабаза ухлопал медведя на девять пудов. Рябины не было – страсть как пошли на овсы. А я летось час ходил с медведицей в обнимку.
– В обнимку? – удивился я.
– В обнимку. Прихватил ее за шею, и похаживаем двое в густом овсе.
– Да но-о?
– Что но-то? Из-за елки встретились нос в нос и не оробели. Обнял за шею, она туда-сюда, а я – не балуйся, милая! – Старик показал сухие, жилистые кулаки. – Ты не слышал обо мне? С утра до полдня одной рукой точило кручу, а с полдня до вечера – другой. Двадцать зазубренных топоров на точиле поправят, а у меня в руках устали еще нет. По снегу босиком в баню, босиком из бани... Так она и кружилась в обнимку со мной, да уж больно пошатывать стала. Спотыкался о комья, когда колхозники с ружьями поспели. Не страсть матерая, но и не мелкотье.
Начал я об этом рассказывать охотникам Вытегры, и они хором ответили мне:
– Было, было, не врет, но медведица помяла его – ребра треснули, на печке зиму отлеживался.
Вытегорский охотовед Владимир Григорьевич Июдин долгое время служил в лесной авиации, любит север – с неба нагляделся на родные дебри, озера, реки, побродил по лесам, болотам.
– Утка перекочевала на Рыбинское море, – жаловался он. – Ждем ее обратно, когда новый канал поднимет большие водоемы. Рябчик, глухарь, тетерев, куропатка – этих много. Двадцать егерских участков на вологодской земле. Заказник пятнадцать тысяч гектаров. Лось, медведь, волк, лиса, выдра, ондатра, енотовая собака. Ондатры охотник один за сезон пятьсот шкурок сдал.
– А медвежьих много сдают?
– Медведь не ондатра, не заяц. Илья Мелдов из Ежозера за год три шкуры сдал, да ушло от него три медведя. Мелдова удачником называем. Еще петли ставят на медведя – трос цинковый обжигают, чтобы помягче был... Петли не охота...
Среди рабочих на канале Волго-Балта и на подсобных предприятиях, готовящих плиты для облицовки стен шлюзов, занятых ремонтом механизмов, много встречал я охотников, рыбаков – знакомых и друзей Владимира Григорьевича. Они рыбачат на озерах Великом, Онежском, на реке Вытегре, с увлечением рассказывают о повадках щук, ершей, судаков, помнят, кому и когда из онежских глубин удалось достать большого сига, кто шутя взял его, когда вошел он в реку Вытегру для метания икры. Газосварщик и слесарь говорили мне: «Природа у нас увлекательная. После работы на лодочке в любую сторону мчись». Токарь Володя Юрченков, улыбаясь, сказал: «На работе, бывает, разгневаешься, не смотрел бы на белый свет, а на озеро выскочишь – злость с твоего сердца смоет, как волной...»
Замечтался я, с Выть-Горы любуясь окрестностями, лесной далью, накрытой светлой грядой ступенчатых облаков; ушел за реку, за город – к баракам строителей первого шлюза, которого еще не видел.
На зеленой болотной траве женщина в черном, размахивая смуглой рукой, рассказывала мне:
– В том бараке – женатые, а в том – холостые, а дальше – шоферы, а левее – белые окна – комсомол, а в крайнем – женщины...
Пошел я к шоферам.
У плиты двое парней в пестрых рубашках варили кашу. Каша сердито пофыркивала, пучилась, двое ложками утихомиривали ее, постукивая о борта кастрюли. Двое других, сидя на кроватях, читали книги, один писал в школьной тетради, один за столом подчищал что-то в чертеже. Оказалось, шоферы жили в соседнем бараке, а это были практиканты с четвертого курса строительного техникума, из Гомеля.
– А столовой разве нет? – спросил я.
– Есть. Но мы переходим на кашу – выдохлись перед получкой, – ответил занятый чертежом Андрей Москалевич.
На своем веку вместе с белорусами впрягался я в тачки, пилил бревна, работал на подъеме целины. Всюду они были друзьями мне, и я люблю их за хорошую, простую душу, за трудовую отвагу, за чуткость к товарищу в тяжкую минуту.
– Были денежки, – сказал Москалевич, отрываясь от чертежа, – но желудок не мешок: в запас не поешь.
– Может, водочкой зашибаетесь?
– Что вы! И курящих-то почти нет...
Иван Шелюта, подняв гитару, ответил на другой вопрос:
– Шлюз бетонируем. Андрей, – указал на Москалевича, – в должности мастера, остальные – арматура, бетон. А подготовкой рабочих чертежей много занимаемся – опыт!
У плиты постучали ложкой
– Заработок маловат на бетоне. Сколько ни бьемся, а ликвидировать простои не удается.
За кашей разговор сосредоточился на преддипломной практике студентов – четвертый месяц работают на стройке, а преподаватели гидротехнических дисциплин еще не приезжали к ним. Ни директор техникума, ни завуч не интересуются своими питомцами.
– Бухгалтер вышлет стипендии – и точка.
Леонид Воробьев, откинув со лба длинные волосы, сказал:
– Беда еще не в этом, беда в том, что нам не дают тем дипломных работ. Делай, что хочешь, спасайся, как можешь. К чему готовиться, что достанется на твою долю? Да и когда готовиться?..
Но тут, как в сказке, в комнату вошла девушка с пузатой сумкой почтальона. Поднялся шум:
– Темы прислали!
– Да не может быть?
– Честное пионерское, темы! – Парень, доселе тихо сидевший у кастрюли с кашей, запрыгал вокруг почтальона, закружил девушку. – Темы! Мне – водосброс!
Студенты сбежались в комнату, стало тесно и весело. Кувыркались, бросали друг друга на кровати, схватывались бороться, нашли в радиоприемнике вальс и пустились танцевать. Ведь им всего было по девятнадцати-двадцати лет.
Москалевич скомандовал:
– А ну, давайте притихнем, друзья-запорожцы! Володя, что у тебя?
– У меня мол из ряжей для защиты выхода Волго-Балтийского водного пути в Онежское озеро.
– Ну что ты знаешь об этом? Ты же все лето на бетоне. В какой стороне, по-твоему, Онежское озеро?
Притихли – каждый обдумывал свою тему.
– Мне – строительство плотины. Так и начну: прошло много времени с того дня, когда большой ум Петра Первого...
Костлявый студент в углу говорил себе негромко, загибая пальцы:
– Сначала чертежей настропалю, потом что-нибудь с пояснительной записки сдую, потом посоветуюсь с Пироговским...
– Хлопцы, надо генплан стянуть.
– Не дадут.
– Но я же и говорю – стянуть.
Сутулый парень с высоким лбом беспрерывно ходил по комнате, повторяя глухо:
– Разработка нижней головы шлюза. Трудно, братцы. Сережа, у тебя применение сборного железобетона на строительстве гидроузла? Но ты же этим и занимался! В точку попал.
«В точку попал» один из восемнадцати, у остальных темы дипломных работ не совпадали с тем, что делали они все лето.
– Вот закавыка, – вслух размышлял Андрей Москалевич, – я знаю хорошо организацию строительства на Вытегорском гидроузле, а писать придется о Белоусовском...
– А разве она не одинаковая? – спросил я.
– В том-то и закавыка! На Белоусовском – начальник, заместитель, главный инженер, а у нас тянет один Пироговский. Он техник, но талант, замечательный мужик!
– Брось тему о Белоусовском, – сказали Москалевичу – пиши о своем узле, о методах Пироговского.
От студентов по деревянным мосткам пошел я в поселок, в котором небольшие высокие дома с крутыми скатами крыш сделаны по заграничному образцу. Здесь где-то жил Пироговский.
Петр Леонтьевич встретил меня на пороге большой квартиры. Тонкий, гибкий, в куртке лыжника, в хромовых сапогах с тесными голенищами. По первому впечатлению он напоминал щеголеватого парня из рабочей семьи. Но ему под сорок, из них двадцать лет строит. Строил поселки, типовые усадьбы МТС, «тянул линию» от Свирь-3 до Белоусовской подстанции.
– Линия высоковольтная, километров сто шестьдесят, – рассказывал он, – ставили поселочки через каждые пятнадцать километров... Не наврать бы, раз пятьдесят я прошел по этой линии... Ничего. Ходить человеку не вредно. Шлюз? В прошлом году бетона уложили три тысячи семьсот кубометров, а нынче – тринадцать тысяч. К шестидесятому, не наврать бы, управимся – пароходы пустим через шлюзы Вытегры и Белоусова, а движение по всему каналу откроем с навигации шестьдесят третьего.
Утром в конторке близ шлюза я вновь встретился с Пироговским. Петр Леонтьевич сдавал блок шлюза, подготовленный для бетонирования, а инженеры гидропроекта и дирекции будущего канала Баронин и Сапегин принимали его. Блок! Что такое блок? Я поскорее хотел увидеть неизвестное мне сооружение.
Вот он.
В глубоком котловане у основания шлюза, похожего на гигантское бетонное корыто, в голове его, стояла короткая стена, сплетенная из прутьев, сквозь нее можно пролезть. Мы карабкались кверху по этой стене, хватаясь за прутья, словно за поперечины пожарной лестницы. Упасть не упадешь между решетками, но повиснешь на них, как на сучьях дерева. Инженеры пошли по стене, ступая на толстые прутья, под ними зияла пропасть, переплетенная сеткой арматуры. Они пошли, как цирковые мастера, а я пополз, да и то проваливался и застревал между решетками. Много потребуется бетона, чтобы заполнить такую стену, затем поставят на бетон, как на гранит, страшной тяжести железные ворота. Будут эти ворота бесшумно, с важной медлительностью открываться для пропуска судов из Черного моря в Балтику, из Балтики – в Черное.
На другой конец стены с горы по сходням явились главный инженер всего строительства Михаил Захарович Гусинский, ранее строивший шлюзы на Волго-Донском канале, и строгий начальник, только что приехавший из Москвы, Дмитрий Иванович Суровов. Михаил Захарович, небольшого роста, круглый, с плавными жестами, черный весь от шляпы до ботинок, беспрерывно улыбался, а строгий начальник становился все взыскательнее. Железа много израсходовано! Густо положены стальные жерди, не в стык сварены. Почему не практикуется стыковая сварка? Машины нет? А почему ее нет? Вот как! Даже не имеется гибочного станка? Ну, товарищи дорогие, так работать нельзя!
Я думал: «В Москве с этим строительством связана сотня инженеров, в Ленинграде – сотня, да и по каналу сотня наберется, а нет гибочного станка, простого, как древняя крестьянская телега».
Суровов долго распекал инженеров. Они, намолчавшись, сказали ему, что все будет исполнено.
В этот же день поехал я с Дмитрием Ивановичем по трассе строящегося канала.
На холмах, по загорьям, Суровов останавливал «газик», выходил из него и, широким жестом обводя низины, с удовольствием предсказывал: «Это все будет затоплено». Человеку явно нравилось, что на месте деревень, лугов, леса появится вода. Желание разлить воду как можно шире заметил я не только у начальника из Москвы, но и у многих строителей, собравшихся на Волго-Балт с мест, где они создавали моря. Масштабы, размах! Но, к сожалению, редко приходилось услышать разговор о бережливости, об экономии народной копейки. Начальники, инженеры Волго-Балта как будто даже недовольны тем, что водохранилища Вытегры, Белоусова, Новинок, Пахомова и Шумкина, вместе взятые, будут в десятки раз меньше даже Череповецкого, а с Рыбинским их и сравнивать не приходится. Редко упоминают и о том, что строительство ведется при небольших объемах земляных работ, которые намечено закончить к 1960 году. На пути в 361 километр будет вынут 41 миллион кубических метров земли, а при строительстве Волго-Донского канала на трассе только в 101 километр земли было вынуто 74 миллиона кубических метров.
– Там вот дела были! – нет-нет да и воскликнет кто-нибудь из волгодонцев и даже заскучает, когда услышит, что нужно считать дела удачными, когда затрат поменьше, а пользы побольше, когда моря получаются покороче и поуже.
В лесу, в маленькой конторе, Суровов сел в жесткое кресло руководителя участка и стал задавать вопросы прорабу Старикову, только что приехавшему с трассы. Один, седой, тучноватый, сидел за столом, а другой, вдвое моложе, небритый, в мокром дождевике, в сапогах, облепленных грязью, стоял у чертежа, висевшего на бревенчатой стене кабинета. Стариков сказал, что в этом году на его участке земли вынуто чуть не втрое больше, чем в прошлом, при том же количестве людей и техники.
– Я не об этом спрашиваю. – Суровов откинулся на спинку кресла. – Я спрашиваю, где обещанные полтора миллиона кубов?
– Миллион триста сделано.
– Мной получена справка – миллион.
– Справка неточная, да и после той справки прошло две недели.
– Все равно мало. Нормы, установленные государством, должны выполняться. В пятьдесят девятом спросим с вашего участка два с половиной миллиона кубов, – сухим строгим тоном говорил Суровов. – Спросим, потребуем.
– На бумаге все можно, – сказал Стариков.
– Что значит – «на бумаге»? Молчание. Инженеры переглянулись.
– Надо все-таки учитывать условия, – сказал Стариков. – Здесь проходил Скандинавский ледник. Грунты тяжелые, глина как чугун. У Цимлянской, у Куйбышева, у Каховки экскаваторами брали грунт – сухим способом, а тут на километры воду тащим за собой к снаряду для гидромонитора.
– Но чем же объяснить: чуть не втрое повысили выработку при той же технике, при тех же людях? Дайте анализ.
Стариков сел к столу.
– Машины те же, но люди не те же. Грязь, дождь – смотреть жутко, а люди работают, обязательство взяли высокое перед съездом. Вы сперва с людьми поговорили бы. Послушайте их. О двух с половиной миллионах мы думали. Много это. Миллион восемьсот – гарантию дадим.
Под Сурововым заскрипело кресло. Он уже не был сердит, следа не осталось от напускной важности. И говорил он уже по-другому:
– Михаил Протасович, пойми ты: надо в три года сорвать основную массу земли. Где же возьмем двадцать миллионов кубов, если на каждом участке начнут выставлять свои «гарантии»? Добавим людей, техники...
– Вы с этого бы и начинали разговор!
– Ну ладно, вези на трассу к мастерам твоим.
Вытегра – начало Балтийского бассейна. От Волги до Балтики – это значит от Череповца до Вытегры, или, точнее, от северной части Рыбинского водохранилища до глубоководного канала, который по руслу реки соединяет город Вытегру с Онежским озером.
Из города вышли на большом теплоходе линии Петрозаводск–Ленинград какие плавают по Волге. Узкий канал с обеих сторон буквально облепили домишки, древние амбары, завозни купцов, уткнувшиеся в светлую воду распахнутыми воротами, точно губастыми ртами. За бечевником - новые дома с большими окнами. Потянулись низкие болотистые берега с кочками, худосочными деревцами. На голом чистом песке по берегу Онежского озера одиноко стоят коренастые сосны. Широкие вершины их, как бы срезанные ветром, плоски, точно посадочные площадки. Ледниковая вода озера большой глубины кажется черной как вороненая сталь, и оттого гребешки на волнах особенно снежно-белы. Впереди Свирь, Ладога, Нева – готовый путь для больших судов.
Капитан сказал мне:
– Штурману трудно в рейсе Москва–Ленинград, потому что плаванье смешанное: река, озеро, канал, то глубоко, то мелко, то узко, то ширь... По каналу ползешь на старом пароходишке, а по Ладоге, по Онеге – качка морская. Ждем одинаковую дорогу на Волгу.
У старых шлюзов, близ цветочных клумб, скамеек под березами или у избушки диспетчера не однажды видел я большие щиты со схемой будущего канала. Привожу здесь отрывок из записи, сделанной со щита у шлюза на водоразделе: «Направление пути, как и прежде было, - из реки Шексны по Белому озеру и реке Ковже до Волго-Балтийского раздела, затем суда должны проходить по реке Вытегре, впадающей в Онежское озеро, по Свири, Ладожскому озеру и Неве до Ленинграда. Путь строится в трудных условиях: много болот, плывунов, часты оползни просадки, встречаются закрестованные известняки, образуются пещеры, воронки, подземные галереи. Вместо тридцати восьми девять шлюзов образуют судоходную лестницу, из них восемь будут отпускать или поднимать суда примерно на тринадцать с половиной метров каждый. Плотинами шести гидроузлов будут созданы водохранилища: на крутом северном склоне по реке Вытегре – четыре, на южном, более пологом, – два. По водораздельным участкам пройдут каналы, в ряде мест выпрямятся русла рек. Общее протяжение Волго-Балтийского водного пути 361 километр...»
В предстоящем семилетии небывалой программы коммунистического строительства канал будет полностью проложен. И в тезисах доклада Н С Хрущева XXI съезду КПСС и в Контрольных цифрах развития народного хозяйства СССР на 1959-1965 годы сказано: «Будет введен в действие Волго-Балтийский водный путь». Строители обещают сдать его водникам к весне 1963 года. Морские суда поплывут рядом с бывшей Мариинкой, там, где сейчас в лесах и болотах люди готовят водный путь.
|