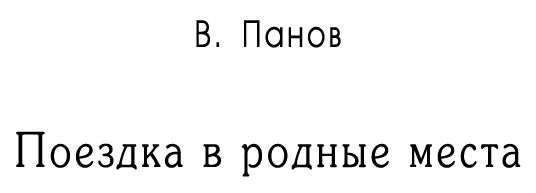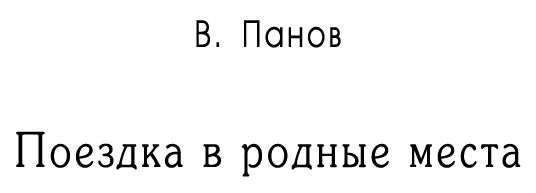|
1. Иван Тимофеевич
Прошлым летом поехал я в родные вологодские места. В Вологду – поездом, а дальше – рекой, на старом пароходике. Еще в городе начали мы обгонять длинный плот. Уже за город выбрались, а плот все мешал нам. Из воды выглядывали концы бревен, издали похожие на выстроившиеся в ряд тупые звериные морды.
– Ерш, – сказал о нем один из пассажиров с брезентовым плащом на руке, назвавшийся Иваном Тимофеевичем. – И тянуть его легче, и меньше требуется проволоки, тросов... В последние тридцать лет миллиарды бревен протащили по речкам Вологодской области. Остались здесь одни пеньки да кустарник – рубаху сдираем с земли.
– Голыми не останемся, – сказал я. – С самолетов засевают землю сосной и елкой...
– Благодарим покорно! – Иван Тимофеевич шаркнул кирзовыми сапогами. – Лет пятьдесят еще побарствуем, а потом уж окончательно останемся голенькими и не с неба, а пешим порядком, к земле пригибаясь, начнем деревья сажать. Каждое дерево на учет возьмем.
Мне подумалось: «Брюзжит человек!»
Солнце тонуло за хвойной горкой, избы горели в его лучах, сосны качались, опрокинутые закатом в тихую реку. На берегу стоял шалаш Косы и серпы, висевшие на перекладине у шалаша, сверкали, как отточенные сабли. Из шалаша, низко пригибаясь, вышли с десяток мужчин и женщина.
– Видите? – спросил нас Иван Тимофеевич, обращаясь не столько ко мне, сколько к моему соседу – немолодому художнику Завьялову.
Да признаться, и я ждал, что скажет Завьялов. Не мне же первому говорить о красоте природы, когда рядом со мной художник. Но он, широко улыбнувшись, тоже спросил:
– А дом бакенщика заметили в темных кустах? Столб с разноцветными огнями? А у костра – братья-разбойнички, добрые молодцы...
Иван Тимофеевич рассмеялся.
– Должен огорчить вас – я-то ведь не об этом думал. Кто сено косит? Вот в чем вопрос. Выехали на лучшие травы райбухгалтеры, райторговцы, райбанковцы. А вернуть бы из контор эту силу крестьянскую на колхозные земли!
Иван Тимофеевич разговорился.
– И лугов у нас много, и травы богатые, и засух не знаем, а молочком оскудели. Вологда еще когда свое первосортное масло на европейские рынки возила! Революционер Боровский, соратник Ленина, книжку когда-то написал о маслодельных артелях в Вологодской губернии. Первые сепараторы – Вологда, первые маслодельные артели – Вологда... А само слово-то «Вологда» вам известно? – воскликнул он. – В далекую старину в Новгородской Республике было слово «волога» и обозначало оно масло, молоко, сметану, творог – все продукты, которые тогда человек получал от коровы. Вот наши-то места новгородцы и назвали Вологой, или Вологдой. Вон откуда слава идет!
Вокруг начал собираться народ. Обиженные за свою область называли знаменитых доярок из районов Кубено-Озерского, Усть-Кубинского, Грязовецкого. Валентина Федоровна Голикова за восемь месяцев от каждой коровы, а их двенадцать у нее, надоила по три тысячи семьсот килограммов, Храброва – по три тысячи, а в колхозе «Красный Север» чуть не каждая доярка за восемь месяцев – по две тысячи.
– Тимофеевку и клевер почти свели на погибель, – ворчал Иван Тимофеевич. – Семян, мол, не имеем, государство наряды не спустило. Да скоси дикую тимофеевку – вот вам и отличные семена! Клевера вон красного и розового по запущенным пашням и залежам по шестьдесят центнеров с гектара снимай.
Завьялов сказал:
– По-моему, вы агроном. Да? И критиковать мастер. А сами вы что сделали хорошее? В колхозе или в совхозе? Критиковать легче всего...
– Делаю, товарищ художник, делаю.
Пароходик, петляя на изгибах реки, привозил нас к заре, увозил от зари; то она справа, то слева, отчего половина реки серебристая, половина – под нависшими кустами – черная, как вороненая сталь; или вдруг вода вспыхивала, словно залитая огнем; была розовой, с медным отливом. В черных кустах еще один белый домик с огнем и столб полосатый с красным и зеленым светом – сигналы дорожные. Заря тускнела, тускнели и краски на воде, на берегу. Темноватая линия кустарника, темноватые облака, низкий горизонт...
Завьялов, не отрывавший глаз от берегов, сказал:
– Неделю тому назад был я в Италии, и прямо из Рима потянуло к русской старине. Новгород и Ростов знаю, а вот в Кириллове и Ферапонтове не бывал.
Иван Тимофеевич, думая о своем, опросил вдруг:
– Хороша, поди-ка, древняя живопись в Италии?
– Древняя? – Завьялов прищурился. – Живопись к итальянцам, да и к нам на Русь принесли византийские мастера... Что вы считаете древним?
– Да как вам сказать... – Иван Тимофеевич немного сконфузился, он явно уже не рад был тому, что задал такой вопрос – Ферапонтово и Кириллов – это древности или не древности?
Завьялов, ответив утвердительным кивком, сказал:
– Отсюда и начнем разговор, не касаясь времен более давних. В молодой Италии, пожалуй, только в четырнадцатом веке появляются художники, которых заинтересовала натура, совершенство техническое в рисунке, но в это время и у нас мастера, тот же, скажем, Андрей Рублев, а позже – Дионисий.
– Ну, так значит, в области живописи догоняем? – спросил Иван Тимофеевич.
– Не думал об этом. Как догонять? Кого? В той же Византии иконы, писанные на дереве, были очень давно. Во всяком случае, до нас дошли иконы, писанные тысячу двести лет назад... На этих иконах, да и на живописи византийской учились позже и мастера Возрождения. Если говорить о фресках, то современники нашего Дионисия, к примеру, Микеланджело, во фресках не сохранились, реставрированы не раз, а Дионисий цел, не переписывали его. В шестнадцатом веке у нас были уже свои школы, и греки начали ездить к нам за образцами русского письма. Нас догоняли! Иконописцев у нас уже в те времена было великое множество – «царских», «жалованных», «кормовых»...
На рассвете пароход из реки Вологды вошел в Сухону, и мы, расставшись с попутным течением, начали подниматься по Сухоне к Кубенскому озеру, из которого она берет свое начало, к знаменитым сухонским лугам, к родине ароматного вологодского масла. На левом берегу мы увидели штабеля бревен, склады белого леса, потому что кора с него снята, заводские трубы, многоэтажные корпуса. Это Сухонский целлюлозно-бумажный комбинат...
Утром мы снова встретились на палубе.
Луга и. олуговелые лесные поляны сменялись зарослями щучки, отливающей и желтыми и фиолетово-черными цветами; росла она и по болотистой зыби и по высоким кочкам, похожим на столбики. Дальше – березняки с примесью осинника, ольхи, ива и чистый приподнятый луг, заросший красной овсяницей, красным клевером, васильком, сине-лиловым астрагалом. Ковер! И опять во все стороны болота – щавель, хвощ, вероника, лисохвост: смесь курчавых головок, бледно-голубых кистей, пушистых колосьев...
Завьялов, делая наброски на большом листе, сказал мне:
– Мертвые кусты очень рельефны на фоне зеленых осок и водной глади. Иван Тимофеевич незамедлительно откликнулся, словно эхо:
– Эти рельефы нам боком вышли. Тут шлюз близко. Речники уровень поднимают, копошатся со своим копеечным интересом, а колхозы без лугов остаются – миллионы в трубу! Надо бы осушать, а они льют и льют...
Вошли в Кубенское озеро – берега отступили, чуть виднелись, ветер усилился, пароход закачался на крутой волне, заскрипел. Многие, в том числе Иван Тимофеевич и Завьялов, спустились с верхней палубы, а я остался, потому что затеял беседу с крестьянкой, которая только что с Иваном Тимофеевичем прогуливалась по палубе, что-то горячо рассказывая ему.
Это была синеглазая северянка с высоким лбом, говорила она не спеша, певуче, мягкими жестами подчеркивая слова. Вслед Ивану Тимофеевичу она сказала:
– У нас агрономом работал. Башковитый. Начнет, бывало, о посеве трав, льна, об истории вологодского маслоделия – заслушаешься! Неохота было расставаться с человеком, а пришлось. В позапрошлом году вдруг ставят к нам председателем Ваньку Васюкова, страшного пьяницу. И пошло у них слово за слово. А Иван Тимофеевич тоже горяч, собирался луга улучшать и назвал Ваньку дураком и паразитом, а Ванька – с жалобами в район. И вот стал наш агроном задумчивым. Выжил его Ванька и начал безобразничать, Я ему в глаза кричала: тебе, Ванька, не только бы кнута, но и плахи мало, а он, пьяная морда, зубы только скалит... Поехали мы, доярки, в район: спасайте колхоз от неминучей беды! Сняли Ваньку, на гармонной фабрике теперь работает.
Из озера вошли в реку Порозовицу, и сразу запахло цветущими лугами, хотя река сужалась постепенно – низкие, заболоченные берега были далеко от парохода
После шлюза река незаметно перешла в неширокое озеро Благовещенское. На высоком берегу мы увидели старинное село Волокославинское, начиналось оно с большой церкви без купола, в которой и находилась гармонная фабрика. За церковью виднелись еще высокие покосившиеся хоромы – памятник прошлой жизни – и старые-старые тополя с засохшими верхушками.
В древности здесь был знаменитый волок. Из новгородских земель, с Волги торговые люди, переселенцы приплывали в Шексну, из Шексны по речке Славянке поднимались в Никольское озеро, а из Никольского до Благовещенского, где остановился наш пароход, – четыре километра – волочили суда, чтобы идти в Кубенское, на Сухону, на Двину и Печору, к северному Уралу. Бывал я на речке. Славянке, соединявшей Запад с Востоком, она длиною километров с двадцать пять, извилистая, богатая омутами, котлованами, в которых не переводятся щука, язь, окунь, лещ, сорога. Седую историю хранят названия деревушек и приметных мест по берегам Славянки: Саванькино, Судно, Кресты, Еловый мыс, Быстрянка, Белый Двор, Болванцы... Впадает Славянка в Шексну между Ниловицами и Сизьмой.
Пристали к Волокославинскому.
Иван Тимофеевич с маленьким чемоданчиком и с брезентовым плащом, перекинутым через руку, подошел к нам попрощаться.
- Лихом не поминайте, может лишнее что сболтнул…сгоряча-то. – Морщинистое лицо его растянулось в улыбке, глаза засияли.– На досуге люблю покалякать, но по натуре, своей не охотник хвастаться – черное называю черным. Желаю вам получить удовольствие от исторических памятников. – Он молодо сбежал по трапу.....
Северянка, издали наблюдавшая за Иваном Тимофеевичем, сказала о нем:
– Голова! В большом колхозе теперь главным агрономом. И председатель там из ученых. Года полтора уже душа в душу работают.
Пароход проплыл мимо поля, по которому из озера Никольского в Благовещенское в старину волочили суда, – теперь лен и рожь зрели тут, пахло клевером, валерьяной лекарственной. Лошади, сытые, лоснящиеся, толпились у воды. Между небольшими деревеньками в зеленых падях вольготно разгуливали коровы и овцы, мелькали по дорогам автомашины.
2. В пути на Ферапонтово
Художник Завьялов остался в Кириллове писать монастырские церкви, а я поехал в Ферапонтово смотреть знаменитые фрески.
Долго усаживались в кузов крытой машины, обставленный скамейками вдоль бортов. Две толстухи успели захватить лучшее место – возле кабины; два проворных парня с рыжими чемоданами, сбивая пассажиров с ног, сели к толстухам, шумно выражая свой восторг. Подвыпивший пассажир с девочкой лет пяти пристыдил парней за нахальство, и те подвинулись, чтобы дать ему с девочкой место.
Мало-помалу народ уселся, притих. Ждали отъезда.
Влезли еще двое. Длинная женщина высоко подняла ногу в черной лакированной туфле с острым каблуком и, очертив ею, словно циркулем, полукруг над головами сидящих, уверенно воткнула ее между людьми, не обращая внимания на протесты и крики; она так же высоко занесла и вторую ногу, сразу очутившись в переднем углу.
– Пробирайся сюда, Василий! – крикнула она мужу.
Василий завяз; неказист, невелик, с большим баяном в футляре, он кое-как поместился у задней стенки кузова и платком стал утирать потное запыленное лицо. Руки его тряслись.
Машина тронулась. За городом – неописуемые ухабы: нас кидало из стороны в сторону, то сильно подавало вперед, то назад, то толкало головой в брезентовый верх.
Баянист, посмеиваясь, спросил:
– В Ферапонтов монастырь, небось? – И, получив в ответ утвердительный кивок, добавил: – Ничего выдающегося нет в монастыре-то. Строеньица неважнецкие.
Пожилая женщина с морщинистым носатым лицом, одетая в пальто песочного цвета, с которой многие охотно заговаривали, называя Авдотьей Егоровной, сказала басовито:
– Ездила на Урал к сыну, живет в новом городе – по улицам пенья да коренья, да березы. – Она улыбнулась соседке в зеленой шляпке. – Девять лет под землю ходит... А сноха-то в собесе, а сватья в пекарне. Домик свой.
Баянист спросил:
– Пьет, поди?
– Нет, не пожалуюсь. Остерегается. Приваживали, а не могли привадить. Дал нам с отцом деньжат – задумали избу поновить и дворишко.
На глубоком ухабе Авдотья Егоровна слетела с мешка. Это вызвало смех, но Егоровна гневно пробасила:
– Умереть не дадут спокойно в родной сторонушке. На Урале-то ездила в мягких автобусах, а здесь живот замучишь...
Румяная блондинка в яркой зеленой шляпе и с клетчатым плащом на коленях вполголоса спросила Авдотью Егоровну, красивую ли жену взял ее сынок-шахтер. Егоровна, покосившись на шляпу, ответила – невестка не хуже других и умом и обличьем, и тоже опросила:
– Ты-то не вышла?
– Вышла.
Блондинка слегка смутилась, а Егоровна, обращаясь ко всем, продолжала говорить:
– Раньше: дочку – в колыбельку, а приданое – в коробейку. Вырос жених – открывай, девка, сундуки, кажи, что накопила, с чем собрали батюшка с матушкой. А ныне: была бы кость да тело, а платье сама делай...
Парни рассмеялись, а одна . из толстух сказала:
– И нынче по-старому получается: единственный сынок, а от своего двора и дворища идет в зятья-приемыши, да и в область-то в другую... Не больно сладко.
– Куда денешься! – Егоровна притворно вздохнула. – Жизнь такая... – И снова обратилась к румяной блондинке: – Любава, а детки-то у тебя есть?
Я не расслышал ответа, потому что, приближаясь к Ферапонтову, стал припоминать все, что знал о здешних местах, исстари знаменитых пребыванием опального патриарха Никона. Перед глазами невольно рисовалась картина: исход морозной ночи, когда высадили из кошевки гонителя раскольников, называвшего себя в указах «великим государем»; был он весь в ушибах, с разбитой головой, потому что кошевка его часто опрокидывалась в лесах при бешеной гоньбе государевых ямщиков. И стал он узником, которому пришлось прожить десять лет в Ферапонтове и пять – в Кириллове.
Громкий голос толстухи с передней скамьи оборвал нить моих размышлений. Она говорила Авдотье Егоровне:
– Около Мурманска тоже заработки дай бог всякому: руду готовим для Череповца...
Ответила не Авдотья Егоровна, а женщина с боковой скамьи, державшая на коленях толстенького мальчугана.
– И Воркута в деньгах не утеснена. От вас – руда, от нас – уголь металлургам в Череповец.
Расхваливали Ташкент: фрукты, теплынь! Ленинград – вот где жить-то! Ехали к своим родителям отпускники с Кубани, из казахстанских степей, из Сибири, из Челябинска – все они были довольны жизнью там и захолустьем называли Белозерский край. Одна только девушка со связкой книг, молчавшая долго, запротестовала:
– Тогда я тоже скажу свое слово: вокруг Ферапонтова и места красивые, и озера рыбные, и травы по лугам густы, а народу нет, потому что молодые бегут от нас – Воркута, Кандалакша, Мурманск... Для животноводства нет мест лучше Ферапонтова.
Баянист воскликнул:
– На сметане живем! А в Ленинграде ничего выдающегося нет. Стакан воды и тот за деньги, а дома-то у нас и в подполе и в амбаре припасы на весь год, и сотенки тоже получаем.
Авдотья Егоровна не унималась:
– В деревне тому на сметане, кто с баяном по свадьбам да по именинам нафантазировался... Баянисты живут, как попы... Не вру я, Вася?
За Василия вступилась его длиннющая жена: человек был на двух войнах, и вот находятся еще люди упрекать его за честный труд.
Завиднелось Ферапонтово, и мысли мои снова вернулись к Никону.
Вокруг Ферапонтова в семнадцатом веке часто бывали недороды – пекли хлеба для братии, трудников и стрельцов из овсяной муки да к ней лебеды примешивали. Никон царю писал: «А у нас ни хлеба, ни дров, ни соли во многие времена не было... и от нужды великой оцынжал...»
Прочитал царь письмо, прослезился, назвал Никона «святым и великим отцом» и вопреки боярам, духовной власти велел решительно изменить жизнь Никона к лучшему. Для ферапонтовского узника распахали огороды и развели сады. У Никона и старцев появилась малина, смородина, тыква, огурцы, салат, свекла, морковь, чеснок, лук, хрен, капуста, репа, горох, лекарственные травы. Местных жителей гнали на огороды, пашни и скотные дворы Никона.
– Осталось ли хоть что-нибудь в здешних местах от Никона? – спросил я Авдотью Егоровну.
Она с ответом замешкалась, а баянист поспешил:
– Два кресла и стол.
– А остров его? – спросила Авдотья Егоровна. – Самое главное не знаешь... На Бородаевском озере чей, по-твоему, остров?
Притихшие пассажиры были явно довольны Авдотьей Егоровной, озадачившей и баяниста и меня. А она начала рассказывать, как Никон, получив деньги от царя, подрядил крестьян возить на лодках камень в глубокое озеро, за версту от берега, возить до тех пор, пока не получится остров, а от острова до берега тропу из такого же камня выложить.
– Время было самое работное,– рассказывала Авдотья Егоровна, – сено косили, хлеб с полей убирали, рожь под зиму сеяли, а он – в озере остров делать, вот вам деньги и вот мое благословение. Ну, к чему это? – Егоровна развела руками. – Чертям, что ли, жить на этом каменье среди воды? Да так оно и вышло – вот уже триста лет минуло, а мы и досель ребятишек пугаем чертями с острова... Он и всего-то метров двадцать в длину, а в ширину, пожалуй, вдвое короче. Ворону сидеть, а не человеку.
Баянист спросил:
– А где же дорога? Бугор-то видать – тростничком порос, а дорога к острову?
– А ты осенью разуй глаза, когда воду спустят из озера, и дорогу заметишь. Нынче все новые моря да каналы. Прежде от воды до воды – волоки, лодку и суденышко ни катках волокут, а нынче не то. Слева от Ферапонтова – Бородаевское озеро, а справа – Пасское. В Бородаевском воду подняли на четыре метра выше против Пасского и держат ее в запасе для Северо-Двинской системы. Бревна гонят из Бородаевского в Пасское. Система. Ну, как подняли воду на четыре метра, так дорожка из камней затонула, а от острова Никона осталась самая верхушечка, рожки да ножки.
Снова нас сильно тряхнуло на ухабе. У задремавшего пассажира с девочкой слетел картуз с лохматой головы. Егоровна строго сказала:
– Ты, пьянчужка, девку-то целой хоть к бабке доставь.
– Не беспокойся, мать, я и не шибко пьяный, да и не без ума. Он поднял картуз, а девочка о самой себе сказала уверенно:
– Девка целая будет. Все засмеялись.
– Откуда все это узнали вы? – опросил я Авдотью Егоровну.
– Откуда бы ни было, а знаю, – с достоинством ответила Авдотья Егоровна. – В народе память осталась – и подати платили, и службы служили, да и читывала маленько, да и ученые наезжают, а я охотница послушать умных людей.
Машина остановилась между магазином и столовой; приехавшие не спеша выбрались из кузова и, разминая ноги, пошли в разные стороны. Я направился к воротам монастыря, над которыми на широченной стене уютно сидела церквушка с двумя шатрами, стоявшими рядышком.
3. Ферапонтовские фрески
Прежде чем идти в собор, к фрескам, зашел я в старую избушку, которая стояла под березами за северной стеной собора. Здесь я предполагал поговорить с местными старожилами – стариками, старухами, но увидел московских студенток и пестрые этюды, развешанные по бревенчатым стенам.
Невысокая девушка с загорелым лицом и чуть вздернутым носиком, снимая листы бумаги с ящика, стоявшего у порога, сказала:
– Садитесь, пожалуйста. Вы, наверное, архитектор? Я, как всегда, назвался газетчиком.
– Почему вы решили – архитектор?
Вторая, черноглазая, в узких брюках и майке, сказала:
– Анна судит правильно: на живописца не похож, значит – архитектор или, в крайнем случае, историк. А газетчики в Ферапонтово и дорогу не знают. Из Москвы – неохота, да и не близко, а вологодские проезжают мимо памятника: сенокос, уборка льна, отелы и окоты, опоросы, цыплята, жеребята...
Кто-то из девушек перебил:
– Опять завела свою шарманку...
– А вы опять не согласны? Аннушка, поддержи меня как бывшая колхозница!
– Не поддерживаю! – Аннушка подняла обе руки. – Против голосую. Скажи, разве нам будет не обидно, если газетчики не станут писать о текстильной промышленности? – Анна повернулась ко мне с пояснением: – Мы на практике – из Московского текстильного института.
Признаться, я был порядочно удивлен: текстильщики – на практику в монастырь, но и девушек удивило мое невежество.
– А цвет? Краски? Композиция? – наступала девица в узких брюках. – Вы еще не видели Дионисия?
Аннушка села на низкий порожек избушки и, щурясь на солнце, вздохнув, сказала:
– Узнать бы секрет составления зеленовато-лазурных тонов. А небо у него? Воздух? Вон посмотрите на север, за тучку, в глубокое прохладное небо – это Дионисий.
– Откуда он родом? – спросил я.
– Я уверена,– сказала Аннушка, – он земляк, мой – из владимирских.
– А по-моему, из киевлян. – Девушка в узких брюках говорила с украинским акцентом. – В те времена владимирские еще в шкурах звериных ходили, а в Киеве была культура...
Я хотел было посмотреть их этюды на стенах избушки, но хозяйки рисунков запротестовали.
– Приехали к подлинникам, и не надо начинать с нашей мазни, – сказала черноглазая в узких брюках. – Копии с Дионисия, да еще и отличные, в Москве найдутся... Охотнее всех беседовала со мной Аннушка.
Текстильщиц, как я понял, больше всего интересовали разнообразные одежды святых. Девушки мечтали о небывалой раскраске тканей. Дионисий, по их рассказам, умел комбинировать цвета. Взять его цветные концентрические круги: сперва красное, чуть пригашенное, потом розовато-красное с белилами, а потом еще светлее – киноварь с сильной примесью белил. Или сперва желто-золотистое, затем светлое и, наконец, совершенно светлое, легкое... А одежды синего, лилового цвета с прозрачными тенями, узорные ткани, парча... Послать бы в Ферапонтово еще и тех, кто расписывает посуду, – орнаментальные мотивы Дионисия могла бы широко заимствовать фарфоровая промышленность.
– Да что там говорить! – вдруг воскликнула Аннушка, махнув рукой. – Жил в пятнадцатом веке, а в двадцатом с радостью взяли бы мы его профессором по раскраске тканей...
Даже мучеников, мучениц, постников, грешников и грешниц, безнадежно дряхлых старцев Дионисий наряжал, как женихов.
– И при всем этом, – говорила Аннушка, – главное у мастера не яркость красок, не резкость их, как это наблюдалось позже, в семнадцатом веке, на стенах ростовских и ярославских церквей, а главное – живость раскраски, чутье колорита, умение владеть цветом...
В собор мы поднялись по широкой лестнице примерно на высоту второго этажа; дверь слева вела в бывшую монастырскую трапезную, в которой, как рассказывают историки, братия небогатой обители в нехлебные годы шумно делила на непокрытом столе жиденькую уху из мелкой рыбешки и хлеб с примесью лебеды, еще левее – распахнутая дверь в общежитие студентов-практикантов, а прямо перед нами – главный вход в храм.
Но что же это? Храм весь в строительных лесах. Ремонт? Стойки, столбы, площадки, настланные из теса, только на площадках этих не штукатуры и маляры, а студенты и студентки, измазанные разноцветными красками.
– Копируют, – пояснила Аннушка. – С утра до вечера копируют, покуда позволяет дневной свет.
Это была практика студентов Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, художественного факультета текстильного института и других учебных заведений. Архитекторы с рулетками и длинными пиками, как у воинов, обмеривали собор. Маленького роста розовощекий юноша с вихрами, в рабочем комбинезоне, так и сказал:
– Обмерная практика.
– А пики зачем?
Юноша недоуменно покосился на меня, как на человека до последней степени недогадливого, и, переглянувшись с Аннушкой, нацепил свою рулетку на острие пики и поднял под самый купол, так, чтобы один конец рулетки оказался у седой головы святого на вершине потолка, а другой – в руках студента.
– Поняли, как я измерил высоту? – спросил он меня, готовый терпеливо объяснить еще что-нибудь.
Аннушка повела меня к фреске, изображающей группу людей в богатых одеждах из парчи и шелковых тканей, чтобы сразу показать вкус и страсть Дионисия к колориту. Это был царский пир, брачное торжество в Кане Галилейской. До мелочей выписаны роскошные наряды жениха и невесты, драгоценные камни, жемчуг.
– Обратите внимание,– сказала Аннушка, когда архитекторы отвели свое копье от стены и солнечный луч из высокого окна приласкал древнее стенное письмо, – не только люди и одежда их, но и пейзажи, трон, горы, портики, колонны, мрамор желто-золотисты, розовато-красны, светло-зелены с нежнейшими оттенками...
Стены собора почти сплошь покрыты росписью. Картины, отдельные фигуры праведников, чудотворцев местами в четыре ряда поднимаются до свода и заполняют его, словно бы споря из-за места.
Богоматерь с младенцем в алтаре ферапонтовского собора по-человечески задумчива, губы плотно сжаты, ноздри широкие, русские, да и белый платок на ней под свободным пурпурным покрывалом – русский платок, под который забраны волосы. Обрусевшая божья матерь! Но младенец Христос, как обычно, держит в левой руке свиток, а правой благословляет двуперстно–каноническое изображение, нет жизни, все застыло. Зато на южной стене Христос на руках матери не в хитоне, а в белой коротенькой рубашке, и рукава короткие, словно у распашонок, и свитка нет, не благословляет – обыкновенный малыш, забавляющийся на руках у своей матери.
Никого так часто, пожалуй, не изображали у нас в храмах, как Николая Чудотворца; великое множество церквей было посвящено этому угоднику. Старик с высоким морщинистым лбом, с небольшой округлой бородкой, с клоком на макушке – образ этот канонизирован еще в двенадцатом веке в Константинополе и оттуда распространился на Руси с незначительными отклонениями от установившегося шаблона. У Дионисия, на мой взгляд, Николай Чудотворец прежде всего строгий, но добрый старец, с решительным характером. И опять сомкнутый рот постника-россиянина, очень впалые щеки, выпуклые скулы, брови сдвинуты, седые, щетинистые, словно иглы, и незабываемые глаза умного угодника, сотворившего «неисчерпаемое чудес море». Молоды, приветливы люди Дионисия, и не верится, что живут они на этих стенах без малого пятьсот лет.
Многие праведники и мученики напоминают птиц с вытянутыми шеями или каких-то животных с маленькими головами и длинными туловищами.
– Это манера письма,– ответила Аннушка. – Школа. Условная трактовка фигуры, а впечатление получается очень хорошее – фигура стройная, легкая. Тут большие головы немыслимы, они бы все испортили. Длинные фигуры – от итальянцев раннего Возрождения.
Мы сели на скамью и общими силами стали вспоминать все, что знали о Дионисии, восстанавливая картины московской жизни той поры, когда среди столичных живописцев появился Дионисий. То было время перестройки Кремля – сердца уже обширной России, когда сооружались дворцы и храмы, доставшиеся нам в наследство. В Москву зазывали итальянских мастеров раннего Возрождения, и рядом с ними работали русские живописцы, зодчие, скульпторы, резчики. Воздвигался «третий Рим». Не удивительно, что в такой среде талантливого художника потянуло к действительности, к жизни, тесными для него были условные схемы средневековья.
Лет тридцать работал Дионисий в артелях живописцев – рядовым, старостой, трудился со своими сыновьями Феодосием и Владимиром. Велик перечень монастырей, храмов, расписанных артелью Дионисия, но сохранились только ферапонтовские, последние фрески мастера. Находят, правда, письмо его по разным, давно непробудно заснувшим обителям, спорят – его или не его иконы. В 1952 году издана книжечка В. И. Антоновой «Новооткрытые произведения Дионисия в Государственной Третьяковской галерее», но все это лишь крупицы из наследия знаменитой артели, да и часто историки только предполагают, что крупицы эти принадлежат Дионисию, в Ферапонтове же он и широко представлен, и на одной из дверных притолок сохранилась надпись: «В лето 7008 месяца августа в 6 день на Преображение господа нашего Иисуса Христа начата бысть подписывать церьковь, а кончена на второе лето месяца сентября в 8 день на Рождество пресвятые владычица нашея богородица Мария при благоверном великом князе Иване Васильевиче всея Руси и при великом князе Василие Ивановиче всея Руси и при архиепископе Тихоне, а писци Дионисий иконник со своими чады. О, владыко всех царю, избави их, господи, мук вечных».
Аннушка и другие студенты ушли.
На лесах, близко от меня, художник усердно копировал фреску. Эту согнутую спину я заметил два часа назад, когда впервые поднимался по лестнице в собор. С кистью, в темной рубахе с разноцветными пятнами, в старых-престарых штанах, в опорках, живописец был похож на бродягу или на пропойцу-маляра. Мне он показался еще и древним живописцем; такими были, может быть, на этом месте, на подобных лесах, Феодосии или Владимир – сыновья Дионисия. Зубы у художника белые-белые, глаза черные, татарские, словно лаком покрытые.
Вечером, когда солнце садилось за мелкие холмы и от острова Никона вытягивалась на воде тень, похожая на темную монашескую одежду, когда избы отражались в озере, а на белых стенах церквей дрожал нежно-розоватый отблеск, когда на верхушках елей как бы свечи зажигались, – вечером встретил я рыжего художника под горой на озерном песке. Шел он с небольшим чемоданчиком, посматривая себе под ноги: он искал земляные краски, которыми Дионисий создал будто бы фрески в Ферапонтове.
В ферапонтовской земле? Яркие краски? Тогда не поверил я художнику. Фрески изысканного мастера напоминали о юге, манили в Грецию и, казалось мне, были очень далеки от елок и сосен Белозерского края, но велико было мое удивление, когда позже, в Москве, читая книгу «Техника фрески», изданную в 1940 году, я встретил такие строчки: «Особенно необходимо отметить хорошее поведение в фреске природных красок месторождения близ Ферапонтова монастыря, являющихся по своей природе типичными цветными сланцами. Они равномерно располагаются под кистью на известковом фресковом грунте и прочно закрепляются на поверхности». И на следующей странице: «Природные краски с жесткой структурой употреблялись, кроме росписей Ферапонтова монастыря, также и в склепе Деметры в Пантикапее II в. до н. э.; как в том, так и в другом случае (на севере и на юге) фресковые росписи сохранились очень хорошо».
Молодые живописцы рассказали мне о необычайной прочности древней штукатурки – левкаса – для стенного письма.
В. А. Щавинский, автор специального исследования, пишет, что «наилучший левкас старых мастеров требовал прежде всего очень продолжительной промывки старой долголежалой уже гашеной извести. Ее мыли в творилах с весны в течение всего лета, денно и нощно переменяли воду в течение каждых 5–6 часов, затем ее морозили зимою, а с весны опять тем же порядком мыли в течение шести недель, «пока достальная емчюга из левкаса выдет». Емчюга, которая образуется на поверхности отстаивающейся извести и которой так боятся иконописцы и левкащики, – это водный раствор гидрата окиси кальция или едкой извести. При промывании старой гашеной извести, состоящей из едкой и углекислой извести, первая частично вымывается водой, частично же обращается в углекислую соль за счет углекислоты, растворенной в воде. Если бы левкащикам удавалось действительно вывести «всю достальную емчюгу», то левкас потерял бы способность затвердевать при высыхании, так как только едкая известь способна схватывать известковый раствор, обращаясь на воздухе в нерастворимую углекислоту. Кроме того, на таком слишком перемытом левкасе не стали бы держаться и краски, творимые на чистой воде. Вот почему старые мастера принуждены были свой очень бедный едкой известью или даже вовсе не содержащий ее левкас поливать «клеем сильным» из ячменного отвара с мучным клейстером и посыпать мукою овсяною».
Подготовка стены состояла в удалении с нее старой извести и вколачивании гвоздей для связи кладки с левкасом. Непосредственно перед левкашением стена смачивалась хорошо водой, затем ее покрывали левкасом, обычно в два приема. Верхний слой наносили частями – с таким расчетом, чтобы мастер успевал заполнить живописью еще не высохший левкас, – затем по левкасу рисовали контуры краской или очерчивали их острием.
Рано утром около собора рыжий художник рассказывал мне:
– Здесь писано по сырому левкасу – я это установил. Шляпки гвоздей кое-где заметны – известка осыпалась... К известковому тесту добавлялись мелко изрубленные волокна льна... Северный ленок! – Он прищелкнул языком. – Да и накладывали первый слой левкаса на сыроватую стену. Спаяно! – Он поднял крепко сжатый кулак. – Не много найдется в Европе письма, которое в таком виде сохранилось бы от пятнадцатого века, да еще в сырой глуши, где и окна-то в здании выбиты... Микеланджело позже Дионисия занялся фресковой живописью, итальянец был неповторимо велик в этом искусстве, но роспись его скоро блекла, покрывалась пятнами, емчюга портила ее. А Дионисий – мастер из мастеров – сохранился.
Я вернулся в Кириллов, побывал на улице моего детства и юности, побродил с художником Завьяловым по музею, расположенному в старинных церквах за монастырской стеной, и пароходом выехал в Белозерск, а оттуда – на Мариинскую водную систему.
4. На канале
Из Белозерска мы уходили по узкому каналу Мариинки. Горели на солнце крыши городских домов, оштукатуренные стены, поленницы березовых дров, шляпки подсолнечника в огородах, стекла в окнах, даже мальчишки, бродившие в трусиках по берегу, пылали, будто подожженные вечерней зарей.
Но вот уже и лес остался позади, и деревня заслонила белокаменный городок, и канал, доселе огибавший Белое озеро, потянулся в густой ельник, словно бы заманивая наш пароходик на свою светлую ленту. Я сел на скамью возле двух женщин и вместе с другими стал прислушиваться к их оживленному разговору. Речь шла о сселении деревень с мест, затопляемых новым каналом.
– Ступить негде – одно болото, и нисколько нам свое место не жалко, – говорила женщина о деревне, – пусть затопляют. У Митрофанихи в сорок две тысячи оценили избу и двор, у Борьки Захарова – в тридцать пять тысяч, у Юдичева – в тридцать две. Не рядятся. Не жаль им казенного рубля. Сперва-то я, дура, схватилась за волосье – как жить на новом-то месте! Понеси меня леший совсем на тот свет, а переезжать не стану. А потом люди урезонили. Из болота переселяют на гору да еще за все про все платят, и убытку нисколько нет, а одна сплошная выгода. За хибару мою одиннадцать тысяч дали, а на горе я высватала домишко за три с половиной. В новом стаде беру по две тысячи литров от коровы, а в старом полутора не надаивала. В болотах-то ноги от ревматизма нашаркивала тройным одеколоном, а на горушках, на суходолах и ревматизма не стало. В старом-то едва пятьсот авансом доярке давали, а в новом семьсот выписывают...
Становилось прохладно, и рассказчица надела ватник, а соседка ее – вязаную кофточку и белый дождевик. Колхозной доярке, как я потом узнал, было тридцать лет, но выглядела она старше – старили впалые щеки и большущие печальные глаза, а соседке, девушке в белом дождевике, едва исполнилось девятнадцать. Звали ее Машей.
– Сколько же у тебя детей? – спросила Маша.
– Пятеро... Я слабая сердцем, а мужики-паразиты льнут и льнут... На водном транспорте они знаешь какие? Делать-то им нечего...
– Неправда! Я тоже на водном. Земснаряд...
– Ну, если ты на земснаряде, то печалься заранее – и рядом не посидишь, а дите родится...
Они заспорили было, но поблизости сидел молодой человек в берете, с китайские термосом в руках, и они примолкли.
Утром проснулся я ранехонько, вышел на палубу, но доярки на пароходе уже не было – проспал ее деревеньку на болоте. Начинался восход солнца. Сперва засветились высокие облака, словно разостланные плотными полосами, затем солнце на хвойные леса и березы исподволь накинуло медную ярь, рассеялось по зубчатым вершинам, раскрасило полную реку. Мы подплыли к пристани Утма, похожей на домишко в лесу. У окон домишка парень в светлой капроновой шляпе поднял от воды блеснувшие удилища и с ведром, с удочками отступил, чтобы матросы с пароходика без помехи накинули чалку на столбик. Пароход прижался к деревянной стенке пристани.
На палубе ко мне подошел молодой человек в берете и представился.
– Орнитолог Марат.
– Он птиц изучает, – пояснила Маша. – Имя его Марат, а фамилия – Кошельков. Студент, из Москвы поехал искать птиц...
Солнце поднялось; пригревало.
Шумливые парни в брезентовых куртках торопливо катали гулкие бревна от воды в гору; женщины граблями ворошили тяжелые валки сырого сена; машины пробегали горой, но главное было – лес, лес и лес, во все концы по неоглядным падям и пригоркам, и, казалось, река Ковжа без берегов, утонула в лесу. Пароходик обогнул большую землечерпалку, от которой в ельник тянулась широченная труба.
– Наш снаряд, – сказала Маша. – Готовим дно для Волго-Балтийского канала.
Землечерпалка, содрогавшаяся от работы мотора, фрезой своей, наверное, ввинчивалась под берег, потому что кусты сползали в воду, опрокидывались, выставляя вверх корни, облепленные грязью; как подсеченные, падали с берега в реку ели, березы. Женщины баграми вылавливали корни, кусты, а трактор металлическим тросом волочил из воды большие деревья.
– Снаряд, – Маша кивнула на землечерпалку, – намывал грунт в Москве, в Лужниках, а потом заходил в Кострому – начальник рассчитался в Костроме, уехал в Ангарск, а снаряд без команды явился к нам, на Волго-Балт... Усилен разрыхлитель – новый поставили. – Она закричала на берег женщинам: – Ура! – Народ на палубе с удивлением посмотрел на нее, и, смущенная, она спряталась между мной и Маратом Кошельковым. Позже она сказала нам: – Думала, девки услышат, а девки и ухом не повели... У нас команда коммунистическая! Багермейстеры – будьте уверены! И главному закоперщику палец в рот не клади – руку откусит. План перевыполняем, себестоимость намного снизили...
Пароход причаливал к райцентру, и Марат быстро поднял на плечи туго набитый вещевой мешок, взял в руки китайский термос и ружье.
Началась обычная суматоха. С парохода волокли мешки, чемоданы, укладывали в штабелек ящики с надписью «Печенье». Машу поцеловали две тетки, тут же подхватив ее узлы из моих рук. Тетки клялись – самовар на столе! Но Маша торопилась в свою Утму, поближе к брандвахте. На брандвахту поехал и я – соблазнила Маша рассказами о команде земснаряда.
– А я в лес иду, – важно сказал Марат, – в глухой, далекий лес, куда почти не ступала нога человека. Задумал повторить маршрут моих однокурсников. – Навьюченный, как лошадь, он с трудом поднимался в гору.
У Марата не было командировки, и Маша подозрительно оглядела его, спросив, есть ли хоть паспорт. Не отвечая девушке, студент похвастался дневниками своих однокурсников – чуть не на каждой странице записано: «Видели свежие следы медведя, лося...»
Маша воскликнула:
– Могли! В прошлом году лось разбил у нас радиатор. Как? А очень просто. Ехали, а лось – на дороге. Остановились, а он изо всей силы ударил задними копытами в радиатор – смял все! И потеха и горе.
Около автобусной остановки мы расположились на чемоданах и мешках, продолжая разговор. Один из пассажиров знал еще случай: явился лось на колхозный ток и копытами разнес веялку.
– А мне как раз шестьдесят километров сплошным лесом, – похвастался Марат. Маша, узнав, куда он собирается, рассмеялась: во-первых, надо было сойти в Утме, а во-вторых, глупо – пешком, если через часок автобус.
– Автобус? – пренебрежительно спросил Марат. – Зачем он мне? Я пойду туда, где нога человека давно не ступала, а вы – автобус...
Марат показал мне чертеж, на котором две реки, множество озер и лес, вписанные в треугольник, рассекала жирная линия.
– Моя гипотенуза,– сказал он об этой линии. Маша, вытягивая шею, заглянула в чертеж.
– А где автобусные остановки?
И опять орнитолог начал горячиться: нет никаких дорог, зачем ему голову морочат, он пойдет по своей гипотенузе. Маша, подмигнув мне, повторила не раз, что дорога есть, а звери в той стороне вовсе не водятся. Она, конечно, подшучивала над путешественником, он же, бедняга, не понимал, видимо, шуток.
– Если бы не водились, наши студенты не поехали бы туда к знаменитому егерю.
– Егерь? Егерь с утра до вечера на сенокосе... Пора-то сенокосная или не сенокосная?
Автобус возник вдруг из-за угла, весь в рыжеватой пыли, и ждущие его засуетились, выстраиваясь в очередь, а Марат отнес мешок свой к изгороди, помахал нам на прощание, затем, навьючившись, пошел в чайную.
Мы с Машей на первой же остановке слезли с автобуса; она пошла в Утму, домой, а я – через поле к реке, на брандвахту. Недавно побрызгал теплый дождик, и всюду сверкала зелень, цветы.
Перед входом на брандвахту я познакомился с рыбаком в капроновой шляпе, его звали Иваном. Это он разводил костер под закоптелым чугунком, полным воды и рыбы. Трое после ночной смены купались; один, давно небритый, растянувшись на траве, читал книгу; двое гоняли металлические шарики на маленьком бильярде. По трапу поднялся я на брандвахту, как поднимаются с берега на баржу, остановился около двух женщин, чистивших картошку, и начал рассказывать им о Маше, потому что они спрашивали, хорошо ли она отдохнула и как выглядит.
Приглашали к одному столу, к другому, но я отказался от жареных грибов, от консервированной печенки, подогретой на большой сковороде, от болгарских помидоров, привезенных судовым механиком из Вытегры, отказался из-за окуньковой ухи Ивана, которая манила меня на берег.
Багермейстер Онисим Анатольевич, матросы Олег, Иван и я – все мы разом сели вокруг закоптелого котла с наваристой ухой и подняли большие деревянные ложки. Незабываемы ломти черного хлеба, тронутые свежим ветерком с реки, густо напоенным луговым ароматом! Что за чудо происходит с ломтями хлеба в поле, а в особенности на берегу озера или реки? Мякиш их покрывается шершавинкой, и они так остро душисты, как никогда не бывают душисты ни дома, ни в ресторанах. Хлебать уху в низине, около болота,– одно, а раскинуть скатерку на бугре, занять наволок – совсем другое, и, может быть, потому русский человек, заселяя Север, ставил деревеньки по наволокам. Похлебают ушицу на высоком берегу и задумают избы тут же срубить...
Иван торопил меня:
– Ешьте, ешьте, а то хлопцы начинают ложками о дно шебаршить... Поймаю осетра – быть моей свадьбе!
Багермейстер Онисим солидно изрек:
– Жениться – ошибка.
Иван и Олег засмеялись – потому, узнал я позже, что багер Онисим, расставаясь с одной стройкой, чтобы ехать на другую, расставался всегда и с женой: «Жирно будет – возить их с канала на канал!» Перекочует Онисим на другую стройку, и останется здесь женщина с ребенком, как знакомая нам доярка…
В деревеньке, у сельской лавки, я познакомился с командиром снаряда. Тонкий, беловолосый, с обветренным лицом, в синей майке на плечах кирпичного цвета, он выговаривал толстяку обиды свои на сельскую лавку. Толстяк, видимо начальник всех лавок в районе, сонно моргал ресницами, рассеянно слушая горячившегося командира.
– Ваши номера нам давно известны! – возмущался командир. – Запечена в булку целая макаронина. А прошлый раз в булке – полпряника. Затвердели пряники – в муку, зацвела подмоченная вермишель – сыпь в муку!
Толстяк, одетый в добротный костюм, процедил сквозь большие желтоватые зубы: – Проверю, проверю...
– Мы бы не взяли эти булки, – командир постучал в свою грудь, – будь бы хлеб в другом магазине...
Толстяк уехал на мотоцикле с пустой коляской, а командир земснаряда, обернувшись ко мне, опросил, кто я, откуда и что мне нужно. Бегло, без интереса, глянул он в мое командировочное удостоверение, сел на ступеньку магазина. Перед нами лежала обычная северная земля – глина и суглинок, а в наволок – песчаная дорога с глубокими колеями от автомобильных колес; и я знал: дальше по большаку будут примеси гальки, щебня, валуны, обнаженные залежи торфа, кое-где ставшие обрывистыми берегами нового канала, и, конечно, безмолвный лес.
– Океанские пароходы пойдут по каналу Волга–Балтика, – сказал командир земснаряда.
– А как это повлияет на жизнь здешних мест?
– Здешних? – Он подчеркнул это слово и задумался. – Для этой глухомани канал даст много электрической энергии. Тут бы пашня полагалось торфом засыпать и лугами заняться. Край позабыт, позаброшен...
Он называл фамилии багермейстеров, матросов, судовых механиков и проценты: проценты квартальные, годовые – заработков, простоев, себестоимости, а я торопливо записывал цифры, связывая их стрелками, чтобы не забыть, какие дела обозначают они.
– Сколько мы зарабатываем? – переспросил командир. – От одной до трех в месяц. И все-таки, понимаешь, местные жители меняют родные места на Петрозаводск, Мурманск, тянутся к Ленинграду, а к нам идут мало.
С наволока шел Марат, согнувшийся под тяжелой поклажей. Он встретился с нами на перекрестке дорог, опустил с плеч вещи и, улыбаясь мне, сказал, что с этой точки он снова отклоняется по своей гипотенузе.
Командир земснаряда, узнав замыслы путешественника, отказавшегося ехать на автобусе, присвистнул:
– На вашем-то месте плюнул бы я на эту чертову гипотенузу. Оставайся у меня, а на охоту к тому озеру в любое время – хоть на автобусе, хоть на мотоцикле. Может, рыбкой интересуешься? Закрепись на снаряде до заморозков, грудь широкая, а вкус к работе привьем. Махнешь в Москву с деньгами.
– Я орнитолог.
– Ну и что же? – Командир, задумавшись, покусал обветренные губы. – А я гидролог, гидрограф и механик, и вся моя карьера на каналах... – Он рассмеялся. – Птиц изучаешь? У нас на реке и в лесу их сколько хочешь! В сутки будешь занят ровно восемь часов, а в остальное время лови, набивай чучела. На медведей съездим, лося припугнем... Винтом завихримся, не успеешь загрустить... А?
На костистом лице Марата изобразилась улыбка, по которой мы поняли, что его нисколько не увлекает работа на земснаряде. Он повесил мешок за плечи, взял термос и ружье.
Командир земснаряда ударил ногой о подножку мотоцикла, и я быстро сел в узкую коляску машины, еще раз помахав рукой Марату.
День был тихий, но ветер бросился нам в лицо с зеленого пригорка, раскрашенного пятнами цветущего клевера, ромашки, иван-чая.
Мы промчались мимо цветов, мимо вырубки и в сосновом пригорке едва выбрались из сыпучего песка.
– Дорога нужна,– сказал командир, – широкая асфальтовая дорога от Архангельска на Москву и Ленинград. Вот бы студентам каждое лето собираться на постройку такой дороги... Я не хаю Марата, он пешком в одиночку пошел искать свою гипотенузу, а на большой трассе для всех нашлись бы гипотенузы.
Остановились у берега и на лодке подплыли к земснаряду.
Снаряд, внешне похожий на грузовой пароход, как слон, хоботом-трубой тянул в себя землю со дна реки и по такой же трубе гнал ее на берег, в кусты, в болото. Жужжащие моторы, колеса и ремни – самое приметное в снаряде. Дежурный механик на множество моих вопросов ответил коротко:
– Основное – команда сработалась.
Я подумал об Онисиме Анатольевиче, у которого, как у багермейстера, ведущая роль на земснаряде, и спросил командира, доволен ли он им.
– Удалый багер, в ночную он...
– Говорят, вы взяли его на работу без трудовой книжки, с пятью судимостями? Не приходилось ли раскаиваться?
– Да нет... У него – три, а пять – у Ивана...
– Это который в капроновой шляпе?
– Да... В шляпе... Двадцать первый год, а судимостей успел нахватать. Из милиции звонок – не связывайся с «Императором». Кличка – «Император». Команда на дыбы: не возьмем! Ванька надел шляпу и потопал от нас. Вернись, говорю. А он и слышать не хочет. Не обращай внимания на мелочи – иди бревна таскать, давай-ко, друг, обувайся в резиновые сапоги. – Командир указал на тонкий берег, по которому лежали седые березы. – Пошел мой Иван и с бревнами вальсировать и березы арканить чалкой. В первый же месяц – полторы тысячи. И не напился. Но после третьей получки – вдрызг! Спросили с Онисима – Онисим был виноват. Онисим тянет его, как якорь... «Ванька, знать судьба наша с тобой такова!»
Пронеслись мы с командиром по старому тракту Петербург–Архангельск, живому только на пути строительства Волго-Балтийского канала, в иных же местах он зарос кустарником, затонул в болотах.
Примчались к обрыву; далеко внизу белая струя воды из брандспойта хлестала по черной стене торфа, так хлестала, что брызги, насыщенные перегноем, напоминали красноватое, вихрящееся пламя; если же попадал в них измельченный старый мох, то пламя казалось особо ярким, хотя это всего-навсего была причудливая игра солнца с водой и раскрошенным торфом.
– Им воды не хватает, – командир указал на глубокий канал, – насосная бьется изо всех сил, а мы по горло в реке... Но грязи и там и тут до пояса. – Он скуповато улыбнулся.– Гипотенуза незавидная...
Вечером у брандвахты, увидев Ивана, собиравшегося на работу, я сказал командиру:
– Все-таки молодец он – после пяти судимостей сразу отсек прошлое.
– Где там сразу! Сразу – в сказках: свистни – появится сивка-бурка, в одно ухо влезешь коню, поешь там, попьешь, одежонку бархатную напялишь и в другое вылезешь молодцом из молодцов... А в жизни... – Он указал глазами на Ивана и Машу.
Маша, в синей новенькой спецовке, смеясь, рассказывала что-то Ивану, делая широкие жесты, а он, прямой, без улыбки, стоял перед ней.
Командир негромко говорил мне, поглядывая в лес, в сторону от людей и брандвахты:
– Пристрастился к рыбалке, ну мы похвалили его, потянуло к девушке – делаем вид, будто не замечаем, а насторожились, конечно, потому что любовь – это самое главное в жизни. Справимся, думаю... В команде пять коммунистов да комсомол, в комсомоле и Маша... Главное, за Онисимом гляди в оба... – Командир вздохнул. – Боремся за звание, но не знаю, будем ли мы командой коммунистического труда с нашей оравой.
В катере, увозившем рабочих к земснаряду, Маша поехала рядом с Иваном; платок ее, полоскавшийся на ветру, залетал на плечо матроса.
5. В Череповце
У секретаря директора Зинаиды Евгеньевны на столе восемь черных телефонов с горбатыми рычажками. В какой-то момент все они заверещали, как злые поросята, а Зинаида Евгеньевна стремительно вскочила со стула и распростерла над ними свои белые руки. Чего-то требовала Вологда, кто-то из Магнитогорска или Оленегорска хотел говорить е Череповцом, докучали цеха, кто-то немедленно просил выехать на вокзал для встречи важного начальника. Словом, столько неотложных дел, что мне, путешественнику, стыдно было отвлекать человека на разговоры со мной, от которых, как говорится, никому ни жарко ни холодно. Пошел я на завод один и три дня подряд с утра до вечера ходил по цехам, и удивление мое при виде всех здешних чудес еще и оттого усиливалось, что многого не понимал я.
На развилке заводской дороги, когда я задирал голову, чтобы дивиться на воздухоочистители домны, похожие на железные брюки с раздвинутыми штанинами, мне показали путь к сталеварам.
Высокий цех напоминал станционную платформу, под куполом которой останавливаются дальние поезда. И в самом деле, на приподнятом пролете под крышей цеха – обыкновенные вагоны с тюками спрессованного железного лома, и толкал их обычный паровоз. В тот ли цех я пришел? Через минуту вагоны, уже пустые, откатились, а я, преодолев последние ступеньки решетчатой лестницы, остановился на краю печного пролета. В стене, на одинаковом расстоянии друг от друга, за железными дверками – завалочными окнами – бесновался, вихрился страшный огонь. Если на цех посмотреть проще, без мудрствования, то любая печь в доме, и квартире внешне похожа на мартеновскую – тоже дверка железная, за ней гудит огонь, и топливо подкидывается, но в домашней оно сгорает, а в мартеновской плавится, как в котле. Вот и представьте себе пять-шесть печей, поставленных на одной линии, – скажем, в коридоре, – и тогда передняя сторона, коридор, будет печным пролетом, а задняя – разливочным отделением, в которое на Череповецком заводе подкатывают по железнодорожным рельсам ковши для приемки жидкой стали.
Откинулось завалочное окошко, сверкнула раскаленная толстая огнеупорная подкладка крышки, и тут же из печи, словно из пасти, вылетел жадный огонь, лизнул стену, затем уменьшился, затем стал еще сильнее, потому что, подумал я, трусливо застывший на месте, тесно было ему в печи вихриться, извиваться узким, длинным зверем. Вдруг сверху в печь полился чугун, как сказочный змей, а из печи полетел к потолку взрыв красного пламени, заплясали искры, и солнце сквозь стеклянный потолок цеха показалось мне маленьким тусклым пятном. Завалочное окошко захлопнулось. Опорожненный ковш поплыл под потолком, и, следя за ним, я заметил под куполом человека, сидящего в застекленной будке, – крановщика у рычагов. И в этот день и в другие всюду под потолками в цехах видел я крановщиков, которые, нажимая на кнопки и рычаги, посылали в разные стороны ковши, бадьи, слитки, крюки, похожие на огромные вопросительные знаки.
Было жарко, душно, и я склонился к питьевому фонтанчику, тонкой струей бьющему в рот.
Опять на рельсах платформы с металлическим ломом, спрессованным в тюки. Пожалуй, лет тридцать с лишним назад был я рабочим в одной из контор треста «Рудметаллторг», ездил по городу на лошади, собирая ведра, тазы, чугунные ступки, пестики, колеса от разных машин, тележек. Во дворе конторы молотом дробил «негабаритные» чугунные вещи, гнул железо, стягивая проволокой в тюки. И рабочим и агитатором был: «Сдавайте государству металлолом!» Но лишь теперь сам увидел, как этот знаменитый лом, столкнутый с платформы в печь, превращается в сталь самых ответственных марок. В те времена спутниками сталевара были кирка, лошадь, запряженная в грабарку, лопата. О Кузнецком и Магнитогорском заводах тогда мы лишь мечтать начали.
Лопаты, надо сказать, и здесь валялись против каждой дверцы: рабочие изредка забрасывали ими в плавку что-то похожее не то на гравий, не то на крупный песок. Как ни величественно было пламя, как ни удивляли краны, ковши, стеклянная будка, из которой варкой стали управлял молодой человек, одетый во все белоснежное, а мне все-таки хотелось поскорее увидеть сталевара. Сталевар, запомнившийся из современных романов, очерков, давно и прочно жил в моем воображении. Он рисовался мне высоким, полным, с чуть седоватыми бровями, сомкнувшимися у переносья, с чисто выбритым лицом. Бас или баритон сильный у этого человека. Втемяшился мне вот такой образ.
Из романов, очерков и пьес (а может быть, я и сам, начитавшись, нафантазировал) всегда возникает передо мной сталевар, у которого сын, или зять, или племянник, или свояк – министры, директора трестов, заводов, знаменитые художники, артисты, дочери замужем за дипломатами, и родня много училась, знает иностранные языки, судит о тонкостях живописи, литературы, но благоговейно смотрит сталевару в рот, когда он, мудрейший из мудрых, произносит слово. Почтительно выслушивают его советы секретари обкомов и горкомов, а директор завода считает за великое счастье появление сталевара на своем домашнем празднике.
И вот настало время встретиться мне с этим необыкновенным героем. Но где же он? И кто эти молодые люди с очками на козырьках фуражек?
– Я третий подручный, – охотно ответил один из них и склонился попить из фонтанчика.
– А я – второй... А вам кого нужно?
В ответ я улыбнулся и отошел к стеклянной будке, надеясь увидеть здесь патриарха металлургии. Прокатились платформы с металлическим ломом. Рабочий, опиравшийся подбородком на совковую лопату, оглянулся, на меня, и я подошел к нему.
– Могу ли я здесь увидеть сталевара?
– Я сталевар, – отрывисто сказал он и очень ловко бросил лопатой в жадную печь несколько порций чего-то, что я принял бы и за крупный песок и за мелкую щебенку. С первого движения человек уверенно набирал полный совок и точно закидывал песок в жаркую топку. Много лет довелось мне поработать лопатой, и я сразу признал умение сталевара пользоваться этим древнейшим инструментом. Точно, экономя движения, бросал он песок на расплавленную сталь, как на солнце. Закончив дело, откинул лопату небрежно, а она, звякнув, покорно легла близко от его ног.
Даже не скосив глаз в мою сторону, он, показалось мне, без всякого интереса спросил:
– А вы кто?
– Журналист, – сказал я. – Надоели они вам?
– Да нет... Не встречался.
– С журналистами не встречались?
Я всегда думал, что журналисты покоя не дают сталеварам, и вдруг такой ответ.
– Знаем редактора заводской газеты, а так чтобы вот с приезжими... Не помню.
Молчим. Полутайком разглядываю сталевара. Он повыше среднего роста, в старой кепчонке, в пиджачке из грубого сукна, в таких же пузырящихся брюках, ботинки старые, очки с потрепанного козырька свисают косо. Ему, наверное, за пятьдесят, хотя он прям, строен, ходит быстро, ступает прочно.
– Пятьдесят четвертый. Годочки катятся. По законам пора бы в отставку, но в семье сам-седьмой, и на голой пенсии тесновато. Две девятьсот зарабатываю, да шестьсот пенсионных идет... На здоровьишко еще не жалуюсь...
– Хватает?
– Лишнего нет, но концы с концами сводим. В Москве-то у вас мясо пятнадцать, а у нас на базаре – тридцать. Такой городишко...
Поглядывая в щель между печью и завалочным окном, я заметил, как постепенно закипает сталь, выбрасывая на свою поверхность языки, похожие на мелких щук. Всплыл шлак, хорошо заметный. Сталевар сказал мне, что зеркало расплавленного металла в ванне почти всегда бывает покрыто шлаком – легкое поднимается на поверхность. Он снова подбросил в огненную пасть несколько лопат и, чтобы утолить мое любопытство, сказал:
– Рудка у нас особая – обогащают ее на Кольском полуострове. Главное в Череповце – сталь, а не чугун. Чугун тут получают, дорогой, как золото,– тысяча восемьсот километров до воркутинского угля, да тысяча пятьсот с лишним до Кольской руды. Издалека приезжают жених и невеста – свадьба недешевая. Но если выплавлять стали процентов на шестьдесят, а то и на семьдесят больше чугуна, да с толком заняться прокатом, чтобы наши стальные заготовки Ленинграду обходились дешевле уральских и южных, то все расходы окупятся, прибыль дадим.
– Еще, значит, не даете?
– Строимся! Все впереди.
Он склонился немного попить из фонтанчика, а затем и я попил из той же струи, бьющей человеку в нёбо; вытирая губы и щеки, мы улыбнулись друг другу.
– Тепловата, – сказал сталевар о воде. – В Кузнецке и вкусом была приятнее, и холоднее.
Он весь будничный, опершийся подбородком на лопату, и фамилия у него рядовая из рядовых – Тимохин. Родом он из-под Орла, в молодости Москву строил, где-то от Ярославского вокзала к Сокольникам, Русаковскую улицу как будто, а с 1936 года – сталевар Кузнецка. Сталевары в Череповце – из Кузнецка и Магнитки, а машинисты кранов, операторы, разливщики – из Тагила. Тимохина, например, квартира сманила... Понаблюдав за печью, он ушел в застекленную будку к рычагам и стрелкам, при помощи которых велась варка стали.
– На войне я не был, – сказал Тимохин, вернувшись из будки, – но сталь для фронта варил, для того же Ленинграда, по две смены, бывало, не уходил от печи, едва-едва плетешься домой.
Сталевары на работе сосредоточенны, внешне строги, почти не улыбаются, поглядывают на печи. Сходит в будку к рычагам и кнопкам, к автоматике и опять возвращается к печи, к бушующему пламени, сделает скупой жест, и подручный по этому жесту выполняет уже какое-то распоряжение. Подручные молоды, а тоже не засмеются, не засвистят, не сядут в кружок – нет у них лишнего времени.
Тимохин отправил куда-то помощника, а мне сказал, что скоро можно будет посмотреть, как пойдет сталь.
– Советую. Поглядите. – Он слегка улыбнулся мне. – Доживают люди до старости, до могилы, а горячую сталь только в кино видели. Сходи. – Это уже прозвучало подобно приказу.
Спустившись по лестнице, я обогнул крайнюю печь и у другой стороны ее увидел на рельсах вагонетки с ковшами. Ковши формой похожи на громадные горшки для цветов, метра четыре, я думаю, высотой. Стены их выкладываются в два слоя огнеупорного кирпича, днище – в три.
У стены, на площадке, сел я на мешки с цементом и приготовился воспринять первое впечатление при виде струи расплавленной стали. Двое молодых людей в спецовках, в шляпах с широкими полями и в брезентовых куртках спросили меня, кто я, откуда, а я в свою очередь спросил их. Они, подручные сталеваров, оказались местными жителями – из Уломского района.
Я воскликнул:
– Из железной Уломы?
– Она самая. – Белобрысый парень с синими глазами доверчиво улыбнулся. – У нас и песня старинная так начинается: «Улома железная, ремесленный народ...»
На русском болотистом Севере, с его клюквой и брусникой, еще в домосковские времена жители Новгородской республики находили железную руду и научились изготовлять стрелы, копья, мечи, топоры, косы, горбуши. Рудознатцы клали в лесах примитивные печи и выплавляли металл. Так продолжалось до тех пор, пока Россия Петра Первого после поражения под Нарвой не занялась выплавкой железа на Севере заводским способом... Уломские же крестьяне были не только знаменитыми «сталеварами», но столь же известными кузнецами. В последние два века железо выгоднее было купить в Нижнем Новгороде и водой доставить под Череповец, в Улому. Уломская волость начала ковать гвозди, ремеслом этим прославилась на все отечество. «Уломский гвоздь!», «Улома гвозди кует!» Осенью запасались металлом, а весной в бочках по Шексне и Волге везли продавать свои гвозди. В каждой деревне были кузницы.
– Разбогатеть не могли, – согласился со мной синеглазый парень, – но и голодными не сидели. Бабушка наша все помнит, сама возила купцам бочки с гвоздями. В Уломе народ пробивной: сегодня подручные, а завтра сталеварами будем.
– Сколько зарабатываешь?
– Да побольше, чем деды и прадеды на ковке гвоздей.
На стену с летками, на подручных, похаживающих вдоль тыльной стороны мартеновских печей, мы смотрели издалека. Мы как бы сидели на балконе, а тыльная сторона печей была сценой, но разделял нас не зал, а пролет, по которому тянулись поблескивающие рельсы, ковши на них и свободно могла пройти еще автомашина. Я часто посматривал с нашего «балкона» на ковши, чтобы не упустить самое первое появление стали.
– Вы чью плавку ждете?
– Тимохина.
– Натурального деда!
– Почему – натурального? – удивился я, чуть обиженный за Тимохина.
– Да у него внуки. У нас одна молодежь, а Тимохин – дед натуральный. Вон его помощник – начал дыру пробивать. Вася Попов. Легкоатлет. Ходил на субботники строить стадион. В дружине состоит. И учится еще в вечерней школе.
Вася Попов расчищал летку. Бил, бил тяжелым ломом в стену, отгребал в сторону леточную массу, которая хоть и похожа на глину, но, говорят, если брать на вес, дороже чугуна и стали. Десятки раз этот момент видел я в киноочерках, там был именно момент, а у Васи Попова – нескорая работа.
И вот сталь пошла.
Не вдруг она кинулась по слегка наклонному лотку. Сперва сверкнула из норы, как бы замерев на секунду, затем свернулась, похожая на ослепительный колобок, словно раздумывая, застыть ли ей здесь или спуститься в ковш, и, наконец, полилась, засверкав ручьем; к потолку, да и к нам полетели зубчатые, игольчатые звезды, тающие в воздухе, они снопами рассыпались во все стороны, но смотрел я на толстый, мощный ручей стали, языком льющийся из печи в ковш; он казался мне и белым, как молоко, с оранжевым оттенком, и багровым, дымящимся чуть, хлещущим, словно кровь, и рождались в нем полосы медной лазури, пятна белил, игра камней разноцветных...
В краю заснувших монастырей, болот и озер, лесов непролазных забурлил металл в домнах и мартенах, построенных, как говорится, по последнему слову техники.
В конторе молодой инженер, сидевший па месте начальника цеха, сощурился и посмотрел в потолок, вспоминая, видимо, внешность Тимохина.
– Это неплохой сталевар...
– Тимохин? – спросили от другого стола. – Кому он понадобился? Об этом писать я бы не советовал, есть люди получше. – И зашелестели бумагами, чтобы «подобрать кандидатуру».
– А чем же он плох? – загудел от порога рослый сталевар с очками на козырьке. – Исполнителен. Скромен. Две плавки даст подряд, если надо, и не поморщится. Не рвет и не мечет у мартена...
– Да так-то оно так, а если взять общественную струнку... – Бумаги шелестели на столе.
– Можно взять и общественную, – гудел человек с очками на козырьке. – Старик и в Кузнецке, и здесь давал и дает сверхплановую сталь. За восемь месяцев сверх программы подарил две тысячи тонн. В Череповце четырех сталеваров подготовил.
В конторе не знали, есть ли награды у Александра Александровича, и я немедля отправился за справкой к Зинаиде Евгеньевне.
Опять трещали телефоны. Зинаида Евгеньевна позвонила в отдел кадров, куда-то на другой конец города, и, поднявшись над восемью телефонами, спросила, сколько наград у Тимохина, в каком году он родился.
– Нельзя? – удивилась она.– Но почему же? Господи, меня-то вы, надеюсь, знаете... Да тут один товарищ... разговаривал с Тимохиным, а спросить забыл. В том-то и дело – по службе надо ему. Да, Слушаю. Так, так... Из Кузнецка. Спасибо, – Зинаида Евгеньевна положила трубку, сказав мне: – У Тимохина орден Трудового Красного Знамени, медаль «За трудовую доблесть», значок отличника соцсоревнования, три раза премирован... Рождения 1906 года, детей семеро...
– Как семеро? Сам он седьмой, а не семеро... Зинаида Евгеньевна приподняла брови и плечи, сказав:
– У меня сведения отдела кадров... Сын у него то ли машинист крана, то ли первый помощник сталевара. Сына приплюсовать надо.
Так я познакомился с рядовым из рядовых – из тех, кого романисты и драматурги не берут в герои, а газетчики не ставят его подписи под статьями к торжественным дням.
6. Вторая встреча с Иваном Тимофеевичем
Возвращаясь в Москву, встретил я в вологодской гостинице агронома Ивана Тимофеевича и художника Завьялова, с которыми познакомился в первый день своего путешествия на пароходе. Иван Тимофеевич приехал в город на областное совещание агрономов, художника интересовали здесь соборы и церкви.
Вечером собрались в комнате художника. Завьялов развесил по всем стенам свои рисунки и картины.
– Глядите. Творческий отчет!
Это были церкви, колокольни, шатровые крыши, монастырские стены, грушевидные купола, арочки на колонках, рельефные кресты на церковных фасадах, избы из толстых бревен, лодки по берегам озер, и среди всей этой старины едва можно было заметить сенокос, уборку льна, колхозную кузницу.
Иван Тимофеевич живо заинтересовался рисунками.
– Вот оно дело-то какое, ребятушки, – Он покачал головой. – Человек ненадолго приехал, а увидел в десять раз больше того, что мы, старожилы, видим. Старины-то сколько! Стало жарко мне – открыть бы окошко... – Распахнули окошко, и шумящий город ворвался в комнату. – Но старина стариной, а замечать надо и новое: машины в деревне и в лесу, новые дома, городскую одежду у колхозника...
Завьялов ответил:
– Но я специально за стариной приехал.
Иван Тимофеевич заговорил о сплошной грамотности, о Вологодском молочном институте, а я громко сказал, что мне очень нравится картина «Луга с кустарником», на которую падал свет из раскрытого окошка. Завьялов согласился: работа удачная. А Иван Тимофеевич головой покачал, сказав, что зелень и светлые солнечные пятна действительно хороши, тени незабываемы, но за последние тридцать лет луга настолько позаросли в точности таким вот кустарником, что скот остался без кормов, приходится в областном масштабе объявлять беспощадную борьбу ивам, тальнику, ракитнику. В прошлом году в «Северной Авроре» за ум взялись: как только стаял снег, так без директив и понукания от мала до велика вышли на луга с топорами начисто вырубать кустарник – и травы больше вырастет, и сено быстрее высохнет, и злаки и бобовые пойдут вместо несъедобных осок... А одну поляну тракторной фрезой обработали – культурный луг стал, сто центнеров брать с гектара будем, а не восемь.
– Но почему же тридцать лет терпели на лугах кустарник?
– Потому что не включался он в плановые мероприятия, а что не включалось, на то и смотреть не хотели сельские руководители. А нынче песня другая – сам шевели мозгой, если дело тебе доверили. Ох, люди, люди... За пятнадцать лет я не ужился в семи колхозах, но года полтора тому назад, после Ваньки Васюкова, встретил председателя – поняли друг друга! – Он повысил голос. – Я спрашиваю вас, что это такое, если крестьянин берется за работу в девять и в пять кончает ее да минус полтора часа на обед? Лежебока он или не лежебока? Мы поговорили об этом с каждым человеком...
В «Северной Авроре» удалось вывезти на поля навоз и торф. И был урожай, какого не случалось лет десять. Торфа хватит колхозу навечно, и навоза горы!
– Пашню северную до смерти довели! – воскликнул Иван Тимофеевич. – Выступает сегодня молодой агроном: «Сейте белый донник! Корневые остатки донника – это сплошной азот. Не надо пятьдесят тонн навоза на гектар, посейте донник – результат будет лучший». Говорит гладко, жесты богатые. И я в молодости выступал с речами о доннике, о суданской траве, эспарцете, но только теперь мне стало ясно, о чем думали мужики, слушая меня. Они сто лет зимой навоз возили на поля, а летом сеяли отличные корма: смесь гороха и овса, вики и овса, клевер, тимофеевку. Вспоминать стыдно. Люди видели, как гибли луга и как мы привязываем коров на цепи, но поскольку все делалось только по плановым мероприятиям, как по струнке...
– Коров на цепи? – удивился Завьялов. – Что за цепи?
– Ничего-то люди не знают! В «Авроре» четыреста пятьдесят дойных коров, и каждая голова была на цепи. Сорок пять доярок, двадцать скотников, восемь телятниц, подвозчики кормов, заведующие с помощниками, учетчики с подручными... И собрались они в красном уголке при ферме – зоотехник лекцию затеял о путях снижения себестоимости мяса и молока... Ну а я только что приехал – взялся за дела на правах заместителя председателя, и мне интересно было послушать лекцию. На второй день говорю зоотехнику: «Как же снизишь себестоимость, если за молоко денег столько не выручить, сколько требуется на зарплату твоим людям?» А зоотехник, как Ванька Васюков, отвечает: «Трудодень платим, а не деньги, можно дать и не ахти сколько». Ой, беда, беда... Жирный зоотехник – раздобрел на молоке и сливках. Он боится коров на прогулку выпустить: ошалеют, мол, от радости и заколют друг друга.
Иван Тимофеевич улыбнулся, поправил на себе пиджак, словно предстояло ему появиться перед начальством.
– Ладно! Отстегнули цепи, и коровы давай носиться вокруг двора, давай скакать с поднятыми хвостами, бодаться от восторга. Едва натешились. На второй день – спокойнее, а на четвертый – нормальная прогулка. Сняли цепи, выкинули стойла, часть кормушек. Свобода! Стоимость ухода за телятами снизилась в три раза, а за коровами – в три с половиной, и молока, между прочим, коровы прибавили. Тридцать пять человек освободилось из животноводства – пошли возить на пашню торф и навоз. Торф и навоз – наш клад.
– А кто эти дурацкие цепи придумал? – спросил Завьялов.
– Кто? – Иван Тимофеевич помедлил с ответом. – Зоотехники, видимо, ученые... Может, с заграницы взяли пример, но только для Вологодской области он совсем не подходит. Окреп наш колхоз буквально в один год, потому что и хлеб родился, и трава на лугах, и вика с овсом. А с этой весны районы целиком двинулись в поход на кустарник – с топорами на луга. Фрезой разрушают кочки, дернину рыхлят, режут мелкий кустарничек, бородавки всякие снимают... А за фрезой подсевать начали злаковые и бобовые. Да что там говорить! Ожили. Если вернемся к прежним травам, повысится жирность молока. А что значит сегодня, к примеру, повысить жирность молока хотя бы на одну десятую процента по всей области? Это триста тонн масла, или чуть ли не восемь миллионов рублей добавочного дохода. Пока на других равняемся, но придет время... Вам не надоело?
Завьялов молча снял со стены картину «Луг с кустарником» и прислонил ее лицом к тумбе стола, но Иван Тимофеевич стал убеждать его: дачникам картина понравится – любят они располагаться на отдых в лугах с кустарником, Завьялов забормотал что-то о живописи и о дачниках. Он был смущен. Теперь он показался мне менее уверенным в себе, чем на пароходе, а Иван Тимофеевич, наоборот, здесь выглядел солиднее – походка увереннее, жесты смелее, голос громче, да и приоделся он по-праздничному по случаю областного совещания агрономов.
|