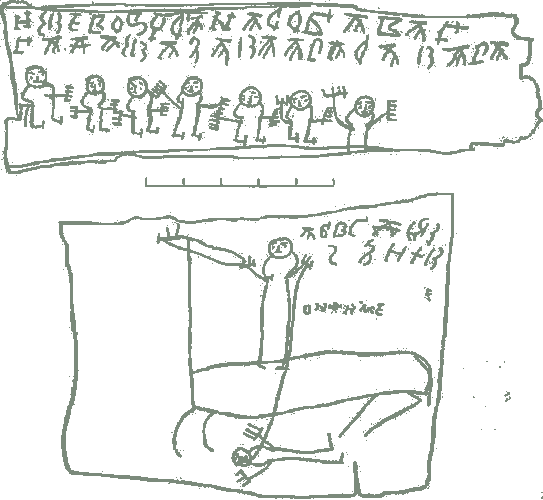|
Детство – традиционный и один из наиболее важных предметов социально-антропологического изучения культур прошлого и настоящего. Оно представляет собой проблему, решение которой лежит в сфере междисциплинарных исследований (Белик 2001: 77). Одной из первых разработку проблемы особенностей детства на примере культур Океании предприняла М. Мид. Основой ее работы стало понимание зависимости этапов развития ребенка и методов социализации от культурной среды (Мид 1988: 88-93). Ее исследования дали толчок изучению специфики детства у других народов. В отечественной науке проблемам детства в этнологической перспективе посвящено немало работ (Кон 1988; Пушкарева 1996а; 19966; Бернштам 2000; Кошелева 2000 и др.). Однако при всей значительности сделанного учеными-этнологами в этом направлении древняя домонгольская Русь до сих пор не становилась объектом специального исследования. Тема эта затрагивалась исследователями лишь вскользь. Вместе с тем важность проблем детства для понимания общего уклада общественной жизни предопределяет необходимость сбора и анализа имеющихся, пусть и не очень многочисленных, данных. Изучение детства в Древней Руси – необходимая составная часть исследований древнерусской этнографии, начатых отечественными исследователями в XX в. (Рабинович 1988; Пушкарева 1989). Рождение ребенка в доиндустриальную эпоху повсеместно рассматривалось как безусловное благо и божественная милость. Русь не была исключением. В то же время отсутствие возможности контролировать рождаемость, частый голод и недостаток материальных средств делали рождение ребенка тяжелым испытанием для семьи простых общинников. Особенно тогда, когда детей становилось много. Недаром и в более поздние времена чрезмерная многодетность считалась бедствием наряду с бесплодием и считалась наказанием за грехи (Бернштам 2000: ПО). Большая часть родившихся детей погибала в младенчестве. И все же, по мнению Райнхарда Зидера, идея Эдварда Шортера о том, что европейские матери в эпоху, предшествующую современности, равнодушно относились к детям и мало о них заботились, слишком поверхностна. Высокая детская смертность и несоблюдение элементарных, с точки зрения современного человека, гигиенических и воспитательных норм в обращении с малышом совсем не означали отсутствия чувства привязанности и родительской любви. Р. Зидер пишет: «Они только по-другому воспринимались и вы- ____________ Вадим Викторович Долгов – кандидат исторических наук, доцент исторического факультета Удмуртского государственного университета (г. Ижевск). ражались не интроспективно эмпатией и словом, а символами и ритуальными действиями... чем следовало бы объяснить то, что даже мертворожденных детей отпевали в церкви и хоронили с надлежащими погребальными церемониями и звоном колоколов, идя на значительные затраты» (Зидер 1997: 40-41). В целом безусловно прав В.П. Даркевич, отметивший, что «частые смерти детей притупляли боль утрат, что не исключало тяжелых душевных переживаний» (Даркевич 2000: 650). Родители делали для детей все, что в общем русле мировоззрения эпохи считали необходимым, действенным и возможным. Другое дело, что часто предпринятые меры лежали в плоскости магических, а не практических действий, но таковы были общественные приоритеты. Кроме того, как было отмечено Н.Л. Пушкаревой, «тенденции «небрежения» детей, особенно девочек, в допетровской Руси постоянно (с X в.) противостояли представления о «благочестивом родительстве», выработанные православной концепцией» (Пушкарева 1996а: 308-309). Поэтому описывать древнерусскую модель отношения родителей к детям как исключительно деспотическую, не дающую возможности развиться чувствам родительской любви и привязанности было бы совершенно ошибочно. Конечно, следует признать, что на взгляд современного врача-педиатра многое в воспитании детей в средневековом обществе было вопиющим нарушением санитарных и педагогических норм, но даже Ллойд Демоз, американский исследователь эволюции детства, нарисовавший чрезвычайно яркую и поистине ужасающую картину истории детских страданий, должен был признать, что этой совершенно неправильно ориентированной заботы часто оказывалось достаточно, чтобы вырастить ребенка (Демоз 2000: 29). Необходимо принимать во внимание, что детство как культурный феномен обычно соответствует характеру эпохи, и практика регулярных телесных наказаний и запугивания детей, возможно, выполняла функцию подготовки ко взрослой жизни – жестокой и трудной. Возможно также, что «средневековые жестокости», изумляющие современного человека, были в свое время «меньшим злом», которым предотвращалось зло большее, сокрытое от нынешнего наблюдателя. Строгие и жестокие подчас меры по ограничению детской подвижности, вероятно, действительно отрицательно влиявшие на психику, позволяли сохранить жизнь ребенку в условиях, когда родителям предстояло отлучаться для работы в поле или в мастерской, и не могли обеспечить постоянный присмотр. Демоз приводит случаи злоупотребления этими несомненно жестокими приемами (няня пугает ребенка до состояния окаменения, а сама отправляется развлекаться), но не учитывает условий их обычного функционирования. Родившегося младенца следовало как можно скорее окрестить. Русское средневековье не отличалось в этом отношении от западного. Иначе, даже будучи совершенно невинным, ребенок лишался возможности посмертного благоденствия. Крещение только что появившихся на свет младенцев не вполне соответствовало святоотеческим установлениям, но оттягивать момент крещения было опасно, особенно в том случае, если у младенца имелись явные болезни. В канонических ответах митрополит Иоанн II рекомендует крестить младенца даже в случае его явной нежизнеспособности (невозможность «ссати матере прияти») (Канонические ответы 1906: 1). В дальнейшем церковь стремилась включить нового человека в ритм христианской жизни, заботясь, однако, о том, чтобы младенец не скончался от чрезмерного усердия родителей, которые могут уморить его непосильным постом. Крещеному младенцу нарекали христианское имя во славу какого-либо святого. Иногда вместе с именем к человеку прикреплялось прозвище его небесного покровителя. Дочь князя Ростислава Рюриковича нарекли при рождении именем Ефросинья и «прозванием Изморагдъ, еже наречеться дорогый камень» (ПСРЛ 1998: 708) в честь преподобной Ефросиньи Измарагд, жившей в V в. н.э. в Александрии (Память Ефросиньи Измарагда 2000: 388). Упоминание в летописи заставляет думать, что «Изморагдъ» (Изумруд) стало одним из употребляемых в обращении имен русской княжны, а может быть, даже ласковым семейным прозвищем (Пушкарева 1996а: 311). Христианское имя не являлось единственным у человека. В домонгольской Руси в большем ходу были не христианские, а языческие имена, которыми ребенка называли в семье. Об этом писал Феодосий Печерский – вопреки ожиданию игумен был совсем не против существования у человека помимо христианского еще и мирского имени, в этом он видел одно из достоинств русского православия в сравнении с католицизмом (Поучения 1997: 448-450). Христианское имя даже не являлось главным. В летописях и официальных документах князья в большинстве случаев фигурируют под славянскими именами. Вряд ли можно говорить о наличии специальных аристократических имен, хотя предпочтения, существовавшие в роду Рюриковичей, ясны всякому читателю русских летописей. Наиболее распространенные княжеские имена: Владимир, Святослав, Ярослав, Игорь, Олег, Изяслав; в ХII-ХIII вв. появляется много Мстиславов и Ростиславов. Представители княжеского рода, поддерживавшего обширные династические связи со странами Скандинавии, иногда имели помимо славянского и христианского еще и варяжское имя – у Мстислава Великого – Харальд, у Всеволода Ярославича, возможно, – Хольти. Имя для князя выбиралось по преимуществу из тех, что уже использовались в роду. Такое имя призвано было определить династическое положение нового князя и наметить ожидаемые политические перспективы (Успенский 2002: 28). Среди бояр и общинников встречаются те же имена, хотя часто они имеют уменьшительную или просторечную форму. Впрочем, какое-то представление об именах, достойных князя, видимо, все же было, поскольку даже у бояр мы часто замечаем имена, никогда не использовавшиеся в княжеском роду. Пример тому – известный Ян Вышатич: ни Янов, ни Вышат среди князей нет (впрочем, возможно, Вышата – форма от Вышеслав). Летопись сохранила много весьма колоритных имен бояр, тысяцких и посадников: Воибор Негочевич, Жирослав Нажирович, Рагуил Добрынич, Мирошка Несдинич и пр. Бояре и князья именовались по отчеству – в этом был знак их высокого достоинства. Фамилий в современном понимании этого слова на Руси не существовало. Люди попроще часто всю жизнь прозывались тем именем-прозвищем, которое было усвоено ими, вероятно, еще в детстве. Они в меньшей степени нашли отражение на страницах летописей, но зато в изобилии читаются в берестяных грамотах и рукописных маргиналиях. Одни имеют исключительно местное славянское происхождение, в других угадывается искаженное христианское имя: Жировит, Стоян, Жизномир, Микула, Нежка, Нежебуд, Завид, Братята, Мстята (вероятно, уменьшительное от Мстислава), Гавша, Братонежко, Нажир, Доброшка, Семьюн, Гостята и пр. Встречаются среди имен и такие, которые звучат довольно странно для уха современного человека: Упырь Лихой – новгородский писец, оставивший пометки на полях переписанной им для князя Владимира Ярославича книги; Душило, или Душилец (имя встречается в летописях и берестяных грамотах). Это последнее имя происходит, можно думать, не от глагола «душить», а от слова «душа». Бросается в глаза разница в логике подбора имен в аристократической (княжеской) среде и в простонародье. Если имена князей обычно имеют в своем составе части «влад/волод», «слав», «свят», несущие значения, связанные с военно-дружинными, властными и жреческими общественными функциями, то в именах простых людей наиболее распространены «жир», «неже», «добро». Сочетание «жи-» является древним корнем, от которого происходят слова, связанные с понятиями, наиболее актуальными именно в жизни земледельца, купца и ремесленника, для которых главная ценность –материальное благополучие: жила (жизнь), жило (жилье), жиро (пастбище), жиръ (пища), жито (хлеб) и пр. (Колесов 2000: 75-76). С положительными понятиями в повседневной жизни простого человека были связаны и «неже-» и «добро». Давая позитивно заряженные имена, родители хотели привлечь к своему чаду желанную судьбу: маленькому князю – воинскую славу и власть над миром, маленькому земледельцу –изобилие, сытость и благополучие. В контексте христианского мировоззрения рождение человека повторяло на «человеческом» уровне божественный акт сотворения первого человека Адама. Очевидно, именно поэтому богомильский апокриф «Сказание, како сотвори Богъ Адама» был популярным чтением в средневековом обществе. События, сопровождавшие появление первого человека, должны были много объяснить в самой человеческой природе. Немало внимания уделяется наречению имени. Кроме того, имеется в апокрифе и своеобразное «расписание» циклов человеческой жизни: до 10 лет – ребенок («исполнится рожение»), 20 – юноша, 30 – зрелость («свершение»), 40 – средовечие, 50 – седина, 60 – старость и 70 – смерть («скончание») (Сказание 1999: 96). Таким образом, вся жизнь человека распадалась на семь частей, по числу дней, проведенных Адамом в раю. Система эта имела несколько вариантов, с разным «шагом» (иногда периоды выделялись не по 10, а по 7 лет, и тогда «ступеней жизни» становилось больше). Книжные данные не означают, что указанное возрастное деление не имело никакой связи с реальной жизнью. Во-первых, потому, что произведения, в которых оно содержалось, были весьма популярны в народе и читались не только интеллектуальной элитой, но и простой читающей публикой, во-вторых, вся терминология, используемая в «Сказании» и подобных ему произведениях, – местная, славянская, взятая, надо думать, из повседневного языка. Для традиционной культуры важными переходными этапами были отнятие ребенка от груди, начало речи, трудовой деятельности и исповедальной жизни. Последняя, согласно православным канонам, начиналась с 7 лет (Бернштам 2000: 116). Взрослеющий эпический богатырь в «ускоренном режиме» проходит традиционные стадии взросления. В былинах критерием взрослости, а значит, и готовности к подвигу, служит умение сидеть на коне (Там же). В княжеской среде 2-3-летний возраст отмечался обычаем пострига. О княжеских постригах неоднократно упоминается в летописи. Сообщением об этом обряде открывается, например, летописная статья 1194 г.: «Быша постригы оу благоверного и х[рист]олюбивого княза Всеволода, сына Георгиева, сыну его Ярославу месяца априля въ 27 день, на память святого Семеона сродника Господня, при блаженном епископе Иоанне, и бысть радость велика в граде Володимери» (ПСРЛ 1997: 411). Важность проводимого мероприятия подчеркивает стереотипная фраза о «радости» в городе, где проходит постриг. По мнению Д.К. Зеленина, обычай пострига бытовал не только у князей, но и во всех социальных слоях: об этом косвенно свидетельствует существование его в XIX в. у орловских крестьян, которые через год после рождения мальчика совершали так называемые застрижки (Зеленин 1994: 182). Иногда обряд пострига мог совпадать с другим, не менее важным обрядом – поса-жением на коня: «Быша постригы оу великаго князя Всеволода, сына Георгиева, внука Володимеря Мономаха, сыну его Георгеви в граде Суждали; того ж дни и на конь его всади, и бысь радость велика в граде Суждали» (1192 г.) (ПСРЛ 1997: 409). Можно предположить, что обычай сажания на коня мог быть распространен не только в роду Рюриковичей, но и во всей военно-дружинной среде, поскольку тесная связь, существовавшая между вождем-князем и его боевыми товарищами, скорее всего, распространялась и на бытовой уклад, включавший в себя обычный набор ритуалов взросления будущего воина. Сугубая важность символики восседания на коне юного князя видна из летописного рассказа о походе княгини Ольги с сыном на древлян в 946 г. Битва начинается с того, что сидящий на коне маленький Святослав «суну» в направлении вражеского войска копьем. Копье, брошенное слабой детской рукой, летит недалеко – пролетев между ушей коня, оно падает к его ногам. Но даже этот не слишком удачный бросок был истолкован воеводами, которые, очевидно, и являлись истинными руководителями битвы, как добрый знак и сигнал к началу сражения: «Князь оуже почалъ, потягнемъ, дружино, по князе!» (ПСРЛ 1997: 46). Для девочки важным рубежом был обряд «вскакивания» в поневу. Понева – древняя составная часть одежды, полотнище ткани, заменяющее юбку. По описаниям этнографов, в XIX в. девушки в деревнях до 15-16 лет ходили в одних рубахах, опоясанных шерстяным поясом. Когда наступала пора наряжаться во взрослую одежду, проводился специальный обряд: девица «становится на лавку и начинает ходить из одного угла на другой. Мать ее, держа в руках открытую поневу, следует за ней подле лавки и приговаривает: «Вскоци, дитетко; вскоци, милое»; а дочь каждый раз на такое приветствие сурово отвечает: «Хоцу – вскоцу, хоцу – не вскоцю». Но как вскочить в поневу значит объявить себя невестою и дать право женихам за себя свататься, то никакая девка не заставляет долго за собой ухаживать да и никакая девка не дает промаху в прыжке, влекущего за собой отсрочку в сватовстве до следующего года» (Зеленин 1994: 185). Д.К. Зеленин, рассмотрев все варианты названного обычая, пришел к выводу, что он некогда предназначался для малолетних детей, поскольку испытание – запрыгнуть в поневу – слишком легко для взрослой девушки. «Обряд совершеннолетия девицы, будучи пережитком глубокой старины, совершался некогда у русских в раннем, отроческом возрасте девушки, когда последней еще нелегко было спрыгнуть с лавки на пол, т.е. спрыгнуть с полутора-аршинной вышины. Обряд этот сопровождался всегда облачением девушек в одежду взрослых женщин и происходил публично, в присутствии всех родных и соседей» (Там же: 191). В череде этапов взросления исследователи предприняли попытку найти главный рубеж, отделявший взрослых от детей, – инициацию. Практика инициации была яркой характерной чертой многих обществ, находившихся на родовой стадии развития к моменту начала изучения их этнографами XIX в. Распространенность этого обычая настолько широка, что исследователи вполне обоснованно стали искать его следы и в прошлом европейских народов. Не стали исключением и древние русы. Попытка реконструировать инициации у древнерусских дружинников была предпринята и в статье В.Г. Балушка (Балушок 2002). Кажется, однако, что в данном случае автор увидел лишь то, что хотел увидеть. Основания, на которых базируется реконструкция, выглядят недостаточно весомыми. Исследователь указывает на существование групп младших дружинников, называемых «отроки» и «детские», достаточно произвольно уравнивая их с западноевропейскими детьми из рыцарских семей, отданными на воспитание крупному феодалу или рыцарю. В Западной Европе мальчик, пройдя службу оруженосцем, по истечении лет и за боевые отличия подвергался особой процедуре посвящения и становился полноправным рыцарем – достигал статуса, потенциально предусматриваемого его происхождением. Древнерусские материалы не дают ни одного примера чего-либо подобного. Нам ничего не известно об аристократическом происхождении «детских» и «отроков». Отроки, скорее всего, происходили из рабов, а детские – хоть и свободные, но совсем не обязательно юноши (Фроянов 1980: 90-91). Не известен ни один исторический деятель, чья судьба началась бы с подобного рода службы. Нет ни малейших упоминаний... ? нет 77 страницы ...лярных в произведениях, составлявших круг чтения человека Древней Руси. Многочисленные «Слова» и «Поучения» – как переводные, так и оригинальные – содержат советы по воспитанию детей. Согласно требованиям Изборника, ребенка нужно с самого раннего возраста «укротить», сломать его характер и подчинить родительской воле. «Coy ли чада, то наказай ы, и преклони от оуности выя ихъ» (Изборник 1965: 339-340). Такой взгляд на воспитание был весьма широко распространен в древнерусской литературе. Он исходит из представления об изначальной греховности человеческой натуры. В «Повести о Акире Премудром», в той ее части, где премудрый Акир наставляет своего племянника Анадана, содержится рекомендация в том же духе: «Сыну, аще от биения сына своего не воздержайся, оже бо рана сынови, то яко вода на виноград възливается... Сынъ бо ти от раны не умреть, аще ли его небрега будеш, иную кую вину приведеть на тя. Чадо, сына своего от детьска укроти, аще ли его не укротиши, то преже дний своихъ состареется» (Повесть 1980: 250). Другими словами, альтернатива следующая: либо человек бьет ребенка, либо, в противном случае, считается, что он не занимается воспитанием. Пренебрежение воспитанием не одобряется, ибо может иметь печальные последствия для самого родителя. Судя по всему, книжные рекомендации в вопросах воспитания оказывались весьма жизненны. «Житие Феодосия Печерского» – произведение, в котором нашла выражение проблема «отцов и детей» в ее древнерусском воплощении. Содержащаяся в нем история взаимоотношений матери и сына позволяет предполагать, что подходы к способам педагогического воздействия, существовавшие в реальной практике, были весьма близки к тем, о которых мы читаем в «Изборнике» или в «Повести об Акире Премудром». Трудно сказать, были ли они навеяны литературными примерами или возникли самостоятельно. Воспитательный метод матери преподобного более всего напоминает именно действия укротителя. Любящая родительница, видя, что ребенок не соответствует общепринятым нормам поведения, принимается «преклонять выю» сына: колотит его, пока сама не изнеможет, заковывает в кандалы, запирает в доме (Житие Феодосия 1997: 358). Однако, подобно премудрому Акиру из переводной повести, мать Феодосия стараниями своими не достигла цели. Сын продолжал вести себя сообразно собственному разумению. Как говорилось выше, суровость воспитания не означает отсутствия любви (Бессмертный 1991: 44). Буквальное подтверждение этому мы находим в древнерусской литературе. Строгости матери св. Феодосия объяснены в «Житии» именно сильной любовью: «любяше бо и зело паче инехъ и того ради не терпяше без него» (Житие Феодосия 1997: 358). Любовь и привязанность могла быть взаимной. Летопись повествует о детских годах галицко-волынского князя Даниила Романовича. Оставшись без отца, он оказался вовлечен в сложные политические коллизии, в ходе которых ему пришлось разлучиться с матерью: вдова князя Романа, изгнанная галичанами, вынуждена была покинуть город, оставив в нем 11-летнего сына. Даниил не хотел оставаться без матери –ударился в слезы: «плакашася по ней, млад сый». Но детская реакция – плач – уже сочетается в его поведении с подростковой отчаянностью и истинно княжеской решительностью. Когда шумлянский тиун Александр, взявшись за поводья коня его матери, хотел увезти ее, Даниил вдруг выхватил меч и бросился на взрослого, порубив под ним коня. И только вмешательство самой матери Даниила, взявшей из рук сына меч и умолившей его остаться в Галиче, помогло успокоить юного (а по нынешним временам, просто еще совсем маленького) князя (ПСРЛ 1988: 727). Впрочем, можно согласиться с мнением Н.Л. Пушкаревой, что в X-XV вв. материнская любовь была «делом индивидуального усмотрения и социально вероятным, хотя, возможно, и не слишком распространенным явлением» (Пушкарева 1996а: 330). Между тем отличия в психологии родительской любви не означали кардинальных отличий в психологии самих детей. Детвора, служащая в житийной литературе контрастным фоном для изображения самоуглубленной серьезности будущего святого, занимается обычным детским делом – играет. Найденные при археологических раскопках детские игрушки обнаруживают удивительное сходство с современными, во всяком случае, по общему принципу формирования. Дети играют, копируя формы трудовой и военной деятельности взрослых. В игре проходил процесс включения ребенка в символическую систему культуры и обучение навыкам, которые должны были пригодиться подрастающему поколению в будущей жизни. Среди археологических материалов часты находки детских деревянных мечей. Например, в Старой Ладоге найден деревянный меч длиной около 60 см и шириной рукояти около 5-6 см, что соответствует ширине ладони ребенка в возрасте 6-10 лет. Обычно форма деревянного меча аналогична форме настоящего оружия данной эпохи. Формы наверший игрушечных деревянных мечей служат датирующим признаком точно так же, как формы наверший настоящих. Играя, мальчик набирался опыта владения оружием, который обязательно пригождался ему во взрослой жизни. Помимо мечей в набор игрушечного вооружения будущего воина входили деревянные копья, кинжалы, лук со стрелами и лошадка, сделанная из палки с концом в виде головы коня, во рту которого – отверстия для поводьев. Были также маленькие лошадки-каталки на колесиках, лодочки из коры или дерева и пр. Для девочек, будущих хозяек, изготавливалась игрушечная посуда – это разных типов глиняные горшочки, кувшинчики, сковородочки, копировавшие формы столовой и кухонной керамики того времени. Довольно широко известны деревянные куклы, форма которых позволяет предполагать, что их пеленали как младенцев (они не имеют ни рук, ни ног). Кроме игрушек, сделанных как уменьшенные копии «взрослых» предметов, известны игрушки, предназначенные не для ролевых игр, а для развлечения, в ходе которого, однако, развивались ловкость и координация движений. К таким относились волчки-кубари, которые полагалось вращать, поддерживая кнутиком, вертушки, разных размеров мячи, санки и пр. Существенно, что часть найденных игрушек являет собой, несомненно, продукт ремесленного производства (Колчин и др. 1997: 114-119): игрушки специально изготавливались и продавались на рынке, а не просто сооружались из подручных материалов. Родителям приходилось тратить деньги на покупку хороших игрушек. Это также доказывает, что мысль о полном невнимании средневекового человека к нуждам ребенка и непонимании им особенностей детского мировосприятия нуждается в корректировке. Воспитание являлось в Древней Руси общественной функцией, за которую были ответственны не только родители. В источниках часты упоминания о «дядьках», «кормильцах» и «кормилицах». О двух последних говорится, например, в «Русской Правде». Там они представлены как рабы, жизнь которых охраняется повышенным штрафом в 12 гривен. Таким же штрафом защищен сельский княжий староста. Следовательно, рабы-воспитатели относились к привилегированному разряду домашней челяди. Фигура раба, смотрящего за детьми, весьма характерна для древнейших периодов европейской истории. Достаточно вспомнить, что «педагогами» («детеводителями») в Древней Риме изначально назывались именно приставленные к детям рабы. В «Вопрошании Кирика» есть совершенно определенное упоминание о том, что грудное вскармливание младенца может осуществляться как «родной матерью», так и кормилицей (Вопрошание 1908: 39). Между кормящей женщиной и младенцем устанавливалась особая мистическая связь: запрет на прием пищи перед крещением переходил с ребенка на кормилицу. Вместе с тем далеко не всегда «дядьки» и «кормильцы» были рабами. Очень часто рядом с князем мы видим его воспитателя-боярина, который обычно пользуется высоким авторитетом и уважением. Таков Добрыня, выполнявший функции «дядьки» (и на самом деле являвшийся дядей) Владимира I Святославича. Добрыня сопровождает последнего в его «приключениях», руководит им в период борьбы за киевский престол. Весьма характерно отчество влиятельного галицкого боярина Владислава, который едва не стал галицким князем, – Кормиличич (ПСРЛ 1998: 724), т.е. сын кормильца (надо полагать, княжеского). Тут же следует упомянуть московского воеводу, погибшего при взятии города монголо-татарами, – Филиппа Няньку (ПСРЛ 1997: 461). «Кормилец», «Нянька» – прозвища, на первый взгляд, странные для воевод. Тем не менее распространенность их весьма показательна для определения места и роли воспитателя в жизни человека Древней Руси с момента его появления на свет. Возможно, новорожденного ребенка полностью перепоручали заботам «кормилиц» и «дядьки». Во всяком случае, для Владимира, в самом раннем возрасте отправленного на княжение в Новгород и рано лишившегося родителей, Добрыня заменил и отца, и мать. О широком распространении обычая передачи ребенка на воспитание в чужую семью пишет Ллойд Демоз (Демоз 2000: 54-55). Следует, однако, снова критически рассмотреть то, каким образом американский исследователь оценивает описанные на страницах его книги обычаи. По его мнению, передача ребенка на воспитание – еще одно проявление средневекового небрежения к детям, безразличия к их судьбе со стороны родителей. По его мнению, обычай этот был обусловлен желанием избавиться от ребенка, переложить тяжесть его воспитания на чужие плечи. Думается, что и в этом случае Демоз не вполне прав. Прежде всего потому, что, если существует практика передачи детей, значит, на каждую «отдающую» семью в обществе приходится одна «принимающая», берущая на себя ответственность и тяжесть воспитания чужих детей. Очевидно, нередко происходил своеобразный обмен, и, отослав к дружественному феодалу своего отпрыска в качестве пажа, семейство принимало к себе чьего-нибудь сына на тех же условиях. В конечном итоге таким образом решалась проблема не избавления от ребенка, а укрепления социальных связей и привлечения к процессу воспитания всей общественной среды. Кроме того, происходило развитие социального механизма, который позволял поддержать и вырастить ребенка в случае, если он оказывался без попечения родителей. Вполне оправданным будет предположение, что такое коллективное воспитание уходит корнями в глубокую древность и является отдаленным пережитком институтов родового общества, в котором мальчики, достигшие определенного возраста, переходили из родной семьи в юношеские союзы, где и протекала их дальнейшая социализация. Важной сферой воспитания, контакта поколения отцов с подрастающим поколением, было образование. Представления о всеобщей неграмотности населения Древней Руси, нашедшие выражение в «Очерках по истории русской культуры» П.Н. Милюкова (Милюков 1994: 207-210), к настоящему времени вполне опровергнуты открытием берестяных грамот А.В. Арциховским и его последователями. На Руси основной объем необходимых для жизни знаний (грамотность и навыки трудовой деятельности), по-видимому, преподавался детям родителями. Если образовательные потребности обучаемого превосходили уровень возможностей родителей, его отдавали в ученичество. Ученичество являлось основной формой образования на Руси не только в XI-XIII вв., но и позже. Как показал Б.Д. Греков, существовали различные уровни образования: основа –элементарная грамотность, а форма высшего образования – «учение книжное» (Греков 1953: 405). Это был путь к высшей мудрости, которою демонстрируют нам прославленные древнерусские «философы» Клим Смолятич, Кирилл Туровский, Авраамий Смоленский и др. Впрочем, в понятии «учение книжное» очевидно соединилось представление о разных уровнях образования, стоящих выше элементарной грамотности. Из источников (в основном агиографических) видно, что «учением божественных книг» занимались и с детьми, собиравшимися более или менее крупными группами у наставника. Судя по всему, поступление на учебу являлось обычным этапом взросления детей из семей, чье социальное положение было хотя бы немного выше среднего. Святые в житиях предстают перед нами в отроческом возрасте в окружении «одноклассников», как правило, менее усидчивых и более шаловливых. Картинки ученической жизни в житийной литературе выглядят, несмотря на свою стереотипность, весьма жизненно. Феодосии Печерский учился хорошо, Авраамий Смоленский «не унывал», а вот у отрока Варфоломея не сразу стало получаться. Такое «учение книжное» – обычное дело, необходимая составляющая воспитания, некий общепринятый средний уровень. Уровень и объем преподавания был адаптирован к нуждам социальной среды, выступавшей заказчиком такого образования: следует полагать, что в особенные тонкости учитель не вдавался, ведь далеко не все из учеников планировали карьеру церковного деятеля. Дети, стремившиеся вместо учения заняться играми и баловством, пока будущий святой предавался церковному пению и чтению, становились, в конце концов, княжескими вельможами или купцами. Давать им слишком большой объем знаний было ни к чему, да и юный возраст обучаемых вряд ли бы позволил выйти за пределы изучения «базового курса» церковной литературы, который и в более позднее время составлял основу древнерусского образования: «Псалтырь», «Часослов» и пр. Для основной массы учеников приобретенные знания оставались своеобразной «общегуманитарной» (в применении к эпохе можно сказать «общерелигиозной») подготовкой, не связанной напрямую с основным видом профессиональной деятельности, быстро вылетающей из головы, но необходимой для того, чтобы не считаться «невеждами». Методика обучения, судя по всему, была достаточно простая. Найденные берестяные грамоты с ученическими упражнениями мальчика Онфима дают о ней вполне ясное представление. Учитель показывал начертания букв, говорил, очевидно, как они звучат. Ученик «набивал руку» в написании и запоминал звучание. Древнерусские учителя в своей преподавательской деятельности могли также ориентироваться на авторитет знаменитого югославянского книжника, сподвижника Кирилла и Мефодия –Климента Охридского. О дидактических приемах последнего рассказывалось в его житии: он учил детей писать в три этапа (Оболенский 1998: 419). Сначала велел ученикам перерисовывать отдельные буквы, затем объяснял значение ими написанного, и, наконец, сам водил их рукой, прививая навыки скорописи. Методика на современный взгляд достаточно необычная, но, надо полагать, действенная: Климент считался превосходным учителем. Судя по тому, что открытые при археологических раскопках в Новгороде писала-стилосы имеют с одного конца плоскую лопаточку, первоначальная тренировка начертания букв происходила с использованием навощенной деревянной дощечки-церы (Дубов 1990: 121). Ученик записывал буквы и мог легко стереть неудавшийся вариант, затем переходили к упражнениям на бересте. Писать на бересте непросто – требуется сила и твердость руки. Если рассмотреть грамоты Онфима, то в них обнаружатся на-
Ученические упражнения и рисунки мальчика Онфима на бересте. Новгород
боры букв и цифр, слоги и обрывки фраз, кроме того, чрезвычайно интересные рисунки (Там же: 130, 160-171). На одном из рисунков под двумя рядами букв изображен ряд человечков с растопыренными руками. По размерам и форме начертания человечки очень напоминают те самые буквы, которыми мальчик был занят вначале. Очевидно, образное мышление Онфима было хорошо развито – он верно подметил сходство (буквы = человечки) и смог адекватно его выразить. Еще занимательней картинка, на которой ребенок изобразил себя самого. Изображена фигура воина, сидящего на коне и поражающего копьем поверженного противника. Рядом подпись: «Онфим». Батальные сцены встречаются и на других грамотах: скачут всадники, под ногами коней распростерты фигуры врагов. Таким образом, Онфим, подобно современным детям, рисовал «войну» –сюжет, который является практически вечным. Изображая всадников, он и себя воображает побеждающим воином. Перед нами фиксация детских мечтаний древнерусского мальчика о том, что будет, когда он станет взрослым. Подобно безвестным владельцам деревянных мечей, Онфим представлял себя на поле битвы. Интересно, что общая композиция детского «автопортрета» очень близка традиционной иконографии образа Георгия Победоносца – тот же разворот конной фигуры, тот же рисунок удара копьем в противника. Возможно, Онфим видел не только (и не столько) настоящие битвы (хотя исключать этого мы не можем – слишком частыми были в то время и неприятельские набеги и междоусобные столкновения), сколько изображение этих битв на иконах и книжных миниатюрах. Можно думать, что вкус к рисованию и наблюдательность могли в дальнейшем привести Онфима не в боевые ряды княжеской дружины, а в иконописные мастерские. Впрочем, более чем велика вероятность, что изучение грамоты и робкие попытки художественного творчества так и остались единственными интеллектуальными упражнениями, которые довелось освоить маленькому новгородцу. Социальным рубежом окончательного взросления на протяжении всего древнерусского периода считалось заключение брака. Брачный возраст по современным меркам наступал рано. В послании митрополита Фотия новгородцам (XV в.) нижняя граница выдачи замуж для девочек определена – 12 лет (Романов 1990: 425). Судя по тому, что митрополит запрещает более раннее вступление в брак, случаи такие иногда происходили. В простонародной среде ранние браки были обусловлены хозяйственными нуждами – с появлением невестки в доме прибавлялись рабочие руки. В княжеской действовали причины политические. В летописи имеется подробный рассказ о брачном посольстве 1187 г., которое князь Рюрик Ростиславич послал в Суздаль к великому князю Всеволоду Юрьевичу Большое Гнездо. Послам следовало сосватать дочь Всеволода Верхуславу за сына Рюрика – Ростислава. Жениху-княжичу было 14 лет, княжне-невесте – 8. В делегации состояли шурин Рюрика князь Глеб, боярин Чюрына с женой и «иныи многи бояре с женами». Сватовство прошло успешно. Всеволод дал в приданое множество злата и серебра, сваты были одарены великими дарами. Северо-восточное владетельное семейство провожало новобрачную, «еха же по милое своей дочери до трехъ станов», отец и мать плакали, прощаясь с дочерью, поскольку «бе мила има, и млада соущи – осьми лет». Значит, судя по специальной оговорке летописца, понятие, что 8 лет – несколько рановато для брака, все-таки было. В приведенном выше летописном рассказе возраст жениха никак не отмечается и не комментируется. Очевидно, он считался вполне нормальным и естественным. То есть для юношей обычный брачный возраст наступал позже, чем для девушек, но не превышал 15-16 лет. Подобная же ситуация отмечается исследователями для западноевропейских стран: 12-15-летний брачный возраст характерен и для средневековой Франции (Габдрахманов 1996: 93). Таким образом, столь существенного разрыва между биологическим и социальным созреванием, как в современном мире, Древняя Русь не знала. Это было связано еще и с необходимостью включения подрастающего поколения в трудовую и общественную деятельность. Важным обстоятельством являлось также отсутствие действенных способов предотвратить раннее начало половой жизни, что, с одной стороны, считалось предосудительным с точки зрения церкви, осуждавшей добрачные связи, с другой стороны, могло повлечь появление на свет незаконнорожденных детей. После того как канули в прошлое древние славянские обычаи соединения брачных пар на языческих праздниках, «бесовых игрищах» и «плясаниях», в обыкновение вошло сватовство, при котором подбор жениха и невесты, а также достижение предварительной договоренности ложились на родителей брачащихся (Устав 1976: 87). Иным, не менее важным показателем взрослости было обзаведение собственным хозяйством. По мнению В.В. Колесова, «детинами на Руси называли и пятидесятилетних мужчин, живущих в доме отца, поскольку такой детина не начал жить самостоятельно» (Колесов 2000: 90). Думается, что имущественный критерий был даже важнее, поскольку взрослость – это вообще самостоятельность, а, оставаясь в родительском доме, дети не могли иметь права решающего голоса – вся полнота власти принадлежала главе семейства. Поэтому и в летописи случаи княжеских свадеб всегда отмечаются и описываются как весьма значимые события, но действующей политической фигурой князь становится только после того, как получает во владение волость. Вообще же, детство в Древней Руси в сравнении с современным, было гораздо менее герметично отделено от взрослого состояния. Обстоятельства значительно чаще толкали человека к раннему взрослению. Причина этого, безусловно, – меньшая продолжительность жизни и отсутствие налаженных механизмов социальной поддержки. Оказавшись сиротой, ребенок вынужден был очень рано заступать на место родителей в поле, в мастерской ремесленника или на княжеском столе, в противном случае ему грозила гибель. Багаж знаний и жизненных навыков, которые человеку следовало усвоить перед началом автономного существования, был не столь объемен, как в постиндустриальном обществе. Это также создавало условия для более низкого возрастного барьера начала взрослой жизни. Все это привело к тому, что общество раннего русского средневековья не знало четко определенного возраста, до которого человек мог, имел право и возможность оставаться ребенком. Не было возраста начала правоспособности, не было четко определенного периода, в течение которого следовало получать образование, все это появилось гораздо позже. Долгое время граница брачного возраста оставалась единственным институализированным рубежом, который существовал в официальной культуре. Но и он, как мы видели на примере 8-летней невесты Верхуславы Всеволодовны, часто нарушался (следует заметить, безо всяких трудностей). Подводя итог, следует отметить, что детство в Древней Руси XI-XIII вв. вполне соответствует средневековой общеевропейской практике. Суровая повседневность не исключала привязанности, теплоты и нежности в отношениях между детьми и родителями. Жестокие подчас способы ухода за потомством проистекали не столько из невнимания к потребностям маленького человека, сколько из особенностей бытовой и культурной среды. Родители уделяли воспитанию детей немало времени и сил, хотя часто родительская забота строилась не на рациональных, а на сакрально-магических мерах. Детство было короче и жестче, и этим средневековая эпоха существенно отличается от современной. В то же время продолжение рода являлось главной и непререкаемой целью жизни подавляющей части населения. Высокая детская смертность снижала интерес к личности ребенка, но это искупалось высокой социальной престижностью материнства и отцовства как такового и стремлением во что бы то ни стало оставить после себя потомство. Источники и литература Балушок 2002 – Балушок В.Г. Инициации древнерусских дружинников // Этнограф, обозрение (далее – ЭО). 2002. № 1. С. 35-45 Велик 2001 – Велик А.А. Культура и личность. Психологическая антропология. Этнопсихология. Психология религии. М., 2001. Бернштам 2000 – Бернштам Т.А. Молодость в символизме переходных обрядов восточных славян: Учение и опыт Церкви в народном христианстве. СПб., 2000. Бессмертный 1991 – Бессмертный ЮЛ. Жизнь и смерть в средние века. М., 1991. Вопрошание 1908 – Се иесть въпрошание Кюриково, неже въпраша иепископа ноугородьско-го Нифонта и инех // Русская историческая библиотека (далее – РИБ). Т. 6. СПб., 1908. С. 21-61. Габдрахманов 1996 — Габдрахманов П.Ш. Средневековые крестьяне и их семьи. Демографическое исследование французской деревни VIII—XI вв. (по данным грамот). М., 1996. Греков 1953 – Греков Б.Д. Киевская Русь. Л., 1953. Даркевич 2000 – Даркевич В.П. «Градские люди» Древней Руси: XI-XIII вв. // Из истории русской культуры. (Древняя Русь). Т. 1. М., 2000. Демоз 2000 –Демоз Л. Психоистория. Ростов н/Д., 2000. Дубов 1990 – Дубов И.В. Новые источники по истории Древней Руси: Учеб. пособие. Л., 1990. Житие Авраамия 1997 – Житие Авраамия Смоленского // Библиотека литературы Древней Руси (далее – БЛДР). Т. 5. СПб., 1997. Житие Феодосия 1997 – Житие Феодосия Печерского // БЛДР. Т. 1. XI-XII века. СПб., 1997. С. 352-434. Зеленин 1994-Зеленин Д.К. Избр. тр.: Статьи по духовной культуре. 1901-1913. М., 1994. Зидер 1997 – Зидер Р. Социальная история семьи в Западной и Центральной Европе (конец XVIII-XX вв.) М., 1997. Изборник 1965 – Изборник 1076 года / Под ред. СИ. Коткова. М., 1965. Канонические ответы 1906 – Канонические ответы митрополита Иоанна II // РИБ. Памятники древнерусского канонического права. (Памятники XI—XV вв.) Т. 6. Ч. 1. СПб., 1906. Колесов 2000 – Колесов В.В. Древняя Русь: наследие в слове. Мир человека. СПб., 2000. Колчин и др. 1997 – Древняя Русь. Быт и культура. (Сер. «Археология») / Отв. ред. Б.А. Кол-чин, Т.И. Макарова. М., 1997. Кон 1988 – Кон И.С. Ребенок и общество (историко-этнографическая перспектива). М., 1988. Кошелева 2000 – Кошелева О.Е. «Свое детство» в Древней Руси и в России эпохи Просвещения (XVI-XVIII вв.): Учеб. пособие по педагогической антропологии и истории детства. М., 2000. Лихачев 1970 —Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси. М., 1970. Мид 1988 – Mud M. Культура и мир детства: Избр. произв. М., 1988. Милюков 1994 – Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры: В 3-х т. Т. 2. Ч. 2. М., 1994. Оболенский 1998 – Оболенский Д. Византийское Содружество Наций. Шесть византийских портретов. М., 1998. Память Ефросиньи Измарагда 2000 – Память преподобной Ефросиньи Измарагда 25 сентября. Из Пролога // БЛДР. XI-XII века. Т. 2. СПб., 2000. Повесть 1980 – Повесть об Акире Премудром // ПЛДР. XII век. М., 1980. Поучения 1997 – Поучения и молитва Феодосия Печерского // БЛДР. XI-XII века. Т. 1. СПб., 1997. С. 388. С. 434-456. ПСРЛ 1997 – ПСРЛ. Лаврентьевская летопись. М., 1997. ПСРЛ 1998 – ПСРЛ. Ипатьевская летопись. М., 1998. Пушкарева 1989 – Пушкарева Н.Л. Женщины Древней Руси. М., 1989. Пушкарева 1996а – Пушкарева НЛ. Мать и материнство на Руси X-XVII вв. // Человек в кругу семьи: Очерки по истории частной жизни в Европе до начала Нового времени. М., 1996. Пушкарева 1996б — Пушкарева НЛ. Мать и дитя в Древней Руси (отношение к материнству и материнскому воспитанию в X-XV вв.) // ЭО. 1996. № 6. Рабинович 1988 — Рабинович М.Г. Очерки материальной культуры русского феодального города. М., 1988. Романов 1990 – Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси // От Корсуня до Калки. М., 1990. Сказание 1999 – Сказание, как сотворил Бог Адама // БЛДР. XI-XII века. Т. 3. СПб., 1999. С. 94-100. Слово 1997 – Слово о полку Игореве // БЛДР. XII в. Т. 4. СПб., 1997. С. 254-268. Успенский 2002 – Успенский Ф.Б. Скандинавы. Варяги. Русь: Историко-филологические очерки. М., 2002. Устав 1976 – Устав князя Ярослава о церковных судах // Древнерусские княжеские уставы XI-XV вв. М., 1976. С. 86-91. Фроянов 1980 — Фроянов И.Я. Киевская Русь: Очерки социально-политической истории. Л., 1980. Щапов 1989 – Щапов Я.Н. Государство и церковь Древней Руси Х-ХШ вв. М., 1989. Элиаде 2002 – Элиаде М. Тайные общества. Обряды инициации и посвящения. М., 2002. |