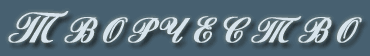Титульный
лист |
Поэзия К. Н. Батюшкова
С. Ю. Баранов
Батюшков-поэт опирался на громадный фонд художественной культуры, созданный человечеством на протяжении многих столетий. Его живо интересовала и античность, и Ренессанс, и рококо, и Просвещение, и предромантические веяния, и увиденное через призму предромантизма европейское средневековье. Ближе к концу творческого пути в его стихах появилось и восточное. Натура чрезвычайно чуткая и податливая, Батюшков легко увлекался самыми разнообразными литературными явлениями и считал подобную отзывчивость нормой: «Истинная, просвещенная любовь к искусствам снисходительна и, так сказать, жадна к новым духовным наслаждениям. Она ничем не ограничивается, ничего не желает исключить и никакой отрасли словесности не презирает» [1] [Батюшков К.Н. Нечто о поэте и поэзии. М., 1985. С. 164]. Но поэтом-эклектиком, тем не менее, он не стал. |
||||||
|
Если основной конструктивный принцип лирики – богато развитая ассоциативность, то специфика батюшковского творчества прочно связана с ассоциациями культурно-эстетического порядка. Может быть, несколько заужая диапазон интересов поэта, Белинский в данной связи отметил: «Светлый и определенный мир изящной древности – вот что было призванием Батюшкова. В нем первом из русских поэтов| художественный элемент явился преобладающим элементом» [2] [Белинский В. Г. Собрание сочинений. В 9 т. Т. 6. М., 1981. С. 183].
Можно было бы, конечно, заподозрить Батюшкова в догердеровско-винкельмановском высокомерии по отношению к европейскому средневековью, эпохе варварства, противостоящей светлому миру античности, если бы сам Батюшков не прокомментировал отталкивающую картину следующим образом: «Гомеровы герои и наши калмыки то же делали на биваках» [Батюшков К.Н. Нечто о поэте и поэзии. М., 1985. С. 229-300].Следовательно, и «упоительной роскоши и неги» сцены из античной жизни – такой же «прекрасный идеал», что и исполненный благородной страсти викинг XI века. Однако, зная об этом, Батюшков все-таки предпочитает идеал существенности, мир художественной культуры миру историко-бытовых реалий. Для него более истинен, более отвечает высокому предназначению человека первый, а не второй. Да, в своих стихах Батюшков проповедует наслаждение, но это наслаждение ценностями духовной культуры, так сказать «культурный гедонизм», а вовсе не «осязательная нега», как полагал Гоголь [5] [Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений. В 14 т. Т. 8. М., I952. С. 379. О специфическом смысле слова «сладострастие» у Батюшкова см.: Розанов И.Н. Русская лирика: Историко-литературные очерки. М., 1914. С. 255]. В состоянии одного из острых приступов хандры, недовольства и жизнью и собою, Батюшков пишет Гнедичу: «Где счастье? Где наслаждение? Где покой? Где чистое сердечное сладострастие, в котором сердце мое любило погружаться? Все, все улетело, исчезло вместе с песнями Полип, с сладостными мечтаниями Тибулла и милого Грессета, с воздушными гуриями Анакреона» [Батюшков К.Н. Нечто о поэте и поэзии. М., 1985. С. 234]. Это и есть краткая и точная характеристика того, что, по мнению Батюшкова, только и может служить источником истинных наслаждений. Если они теряют цену, то утрачивает смысл и сама жизнь. Не случайно в «Беседке муз» как о непременном условии дальнейшего существования сказано:
Понятно, что минимум, о сохранении которого, печется Батюшков, не может дать человеку ощущения прочного и полного счастья. Отсюда граничащее с отчаянием глубокое чувство тревоги, которое пронизывает все творчество поэта, несмотря не упоительные картины счастья, обретенного в уединении, на лоне природы, среди книг любимых авторов, с избранницей сердца. Его программа «культурного гедонизма», как, впрочем, и ряд других разновидностей «философии наслаждения», по сути дела являлась «пессимизмом наизнанку», отражением психологии «пира во время чумы» [6] [Иванов В.Г. История этики древнего мира. Л., 1980]. Все изложенное необходимо принять во внимание, чтобы стало ясно, почему и в каком смысле можно говорить об идиллии в творчестве Батюшкова. Идиллия в начале XIX века была весьма популярным жанром, хотя и не таким заметным, как элегия или баллада. Она имела достаточно прочные корни в европейской культуре. С ней не связывали своих ведущих программных установок главы литературных школ и направлений, поэтому у современников Батюшкова и не было серьезных поводов для ее дискредитации. Хотя, конечно, эстетическая репутация идиллии несколько пострадала из-за того, что в искусстве рококо пастораль превратилась чуть ли не в основную форму утонченной салонной игры в простоту, невинность и близость к природе. Естественно, те, для кого художественная деятельность представляла собой нечто большее, нежели средство для получения изысканных и пикантных удовольствий, свое негодование распространяли и на те формы, которыми искусство рококо охотно пользовалось. Подлинно глубокий, мировоззренческий интерес к идиллии оживили сентименталисты, тоже не избежавшие упреков в манерности, но именно благодаря им понятия «идиллия» и «идеал» тесно сблизились. Это и дало веские основания для интерпретации жанра в духе времени. Как и элегия, идиллия занимала внутри системы жанров классицизма промежуточное положение в пределах оппозиции «высокое» – «низкое». Более того, она даже не являлась осевым жанром, четко фиксирующим то или иное родовое начало. Недостаточная прочность иерархического статуса идиллии определенным образом отражала ее структурную зыбкость, размытость и усугублялась еще терминологической разноголосицей. «Буколика», «пастораль», «эклога», «идиллия»- все эти наименования уже в античности резко не разграничивались, могли применяться к одному и тому же произведению [7] [Попова Т.В. Буколика в системе греческой поэзии // Поэтика древнегреческой литературы. М., 1981]. Такое же, в сущности, положение сохранялось и в батюшковское время. «Словарь Древней и новой поэзии» К.Ф. Остолопова отмечая: «Поэзия буколическая, пасторальная, т.е. пастушеская, идиллия, еклога, суть именования, означающие одно и то же: описание сельских нравов или происшествий между поселянами» [8] [Словарь древней и новой поэзии, составленный Николаем Остолоповым. СПб., 1821. Ч. I. С. 336]. Конкретизируя свое представление о жанре, Остолопов ссылался на произведения ряда авторов, кое-кого обильно цитировал. Кроме патриархов – Фескрита, Мосха, Биона – упоминались Вергилий, Тассо, Ракан, Сегре, г-жа Дезульер; из русских – А.Ф. Мерзляков, С.П. Салтыков, А.Ф. Воейков, В Л. Панаев – подражатели и имитаторы преимущественно, хотя и различные по таланту. О последнем из них Батюшков опрашивал у Гнедича: «Кто такой Панаев? Совершенно пастушеское имя и очень напоминает мне мед, патоку, молоко, творог, Шаликова и тмин, спрыснутый водой» [Батюшков К.Н. Нечто о поэте и поэзии. М., 1985. С. 331], Батюшков иронически переосмыслял на греческий манер имя литератора, но одновременно это была и косвенная характеристика пастушеской поэзии, идиллии – в том ее варианте, который Остолопов считал близким к образцу, да еще с сентиментальными наслоениями. Кое-что в батюшковской характеристике жанра требует пояснений. Ведь он писал к другу, хорошо знавшему его вкусы, во многом солидарному с ним, и потому мог изъясняться намеками, не договаривая. Своего рода комментарием к словам и к тону Батюшкова могут служить два предисловия Гнедича к собственным произведениям: первое – к переводу идиллии Феокрита «Сиракузянки», второе – к оригинальной идиллии «Рыбаки». Гнедич полагал, что жанр только тогда может полноценно существовать и развиваться, если изжито отношение к нему как к музейному экспонату. Подражая древним, мы берем и формы их творений, и самые предметы, забывая, что формы в поэзии – то же, что рамы в картине: рамы, как и формы, могут быть в искусстве общими, но предметы едва ли» [9] [Гнедич Н.И. Стихотворения. Л., 1956. С. 816]. К переводу «Сиракузянок» Гнедич приступал с определенной целью: доказать, что представление об идиллии как пастушеской поэзии – ложное. Предлагаемая вниманию читателей идиллия Феокрита – пример тому. Она представляет собой сценку из городской жизни и в силу авторитета родоначальника жанра допускает гораздо более широкое, чем это принято, толкование. По мнение Гнедича, главная и, пожалуй, единственная цель идиллии, допускающая неограниченную свободу в выборе предметов и средств изображения, – перенести читателя к той сладостной жизни в недрах природы, от которой нынешнее состояние общества так нас удаляет» [10] [Гнедич Н.И. Стихотворения. Л., 1956. С. 184]. Очевидно, что имелась в виду жизнь не столько на лоне, сколько по законам природы. Так обосновывались и возможность создания русской народной идиллии на современном материале. Батюшков идеями русификации античного культурного наследия не увлекался, но для него, как и для его друга, идиллия, по-видимому, уже не была жанром исключительно пастушеским. Наряду с репродуктивным, традиционном пониманием жанра, зафиксированным словарем Остолопова, в европейской культуре складывалось новое представление об идиллии, к которому и Гнедич, и Батюшков, в силу их эстетических воззрений, тяготели в большей мере. Примечательно, что, критически относясь к опыту развития жанра от Вергилия до Геснера, Гнедич высоко оценивает успехи в этом жанре современных ему немецких поэтов: Фосса, Броннера, Гебеля. Его симпатии не случайны, поскольку немецкая литература конца XVIII – начала XIX вв. развивалась в тесном контакте с философской лирикой, достижения которой в то время во многом определяли уровень европейской культуры. Мыслители Германии разработали концепцию эстетических категорий как сущностей, воплощающих определенную идею, в конкретно-исторических формах своего бытования обретающих лишь относительное, в большей или меньшей мере соответствующее идее, выражение. К идиллии этот принцип последовательно применил Ф.Шиллер в трактате «О наивной и сентиментальной поэзии». В его истолковании идиллия – не жанр, а нечто более крупное, один из основных видов сентиментальных (т.е. созданных в эпоху «культуры») поэтических сочинений. Главная цель идиллии в ее подлинном виде – выразить состояние души, раздвоенной, разделенной между идеалом и действительностью Шиллер подчеркивает, что здесь имеется в виду именно раздвоенность, а не борьба, не примирение двух противоположна начал, как в сатире и элегии – двух других видах сентиментальной поэзии. Состояние гармонии, согласия с самим собой и внешней средой, идиллия изображает как утраченное современным человеком, но имевшее место в далеком прошлом, когда человек был частью природы. Культура, разрушившая некогда это состояние, в ходе своего развития и совершенствования должна опять к нему привести – на новом уровне, разумеется. Такова ее высшая, истинная цель. Поэтому идиллия в системе философско-эстетических воззрений Шиллера наделяется исключительной ролью: она призвана дать человеку, живущему в «эпоху культуры», «чувственное доказательство» возможности достижения гармоничного состояния вопреки данным «действительного опыта» [11] [Шиллер Ф. Собрание сочинений. В 7 т. М., 1957. Т. 6. С. 440-441]. Нетрудно заметить, что понимание идиллии Гнедичем близко к шиллеровскому, с той, однако, существенной разницей, что немецкий поэт и мыслитель придавал ей гораздо более широкое, фундаментальное, нежанровое толкование. Взгляды Шиллера и Гнедича отражали два полюса в рамках тенденции к истолкованию идиллии на новый лад. Где-то между ними складывалось отношение к идиллии Батюшкова, Между этими полюсами располагались и по-своему интересные, конечно же, не безразличные для поэта идейно-художественные эксперименты с идиллией Н.М. Карамзина [12] [Кросс А. Разновидности идиллии в творчестве Карамзина // XVIII век. Державин и Карамзин в литературном движении XVIII-начала XIX века. Л., 1969. Сб. 8]. При всех расхождениях в понимании специфики идиллии, названные литераторы сходились в одном: они пытались воплотить в ней, говоря словами Шиллера, «чувство больного к здоровью». Аналогичным чувством окрашено и отношение Батюшкова к тому светлому, чистому и радостному миру, который он создал в своих стихах с широким использованием античной образности. И, тем не менее, его позиция глубоко своеобразна. Батюшков не предполагает возможности действительного существования подобного мира ни в будущем, ни в настоящем, ни в прошлом. Его идеал – фикция, поэтический вымысел, вовсе не рассчитанный на воплощение в жизни. Он соткан из мотивов произведений его любимых авторов, мотивов, весьма свободно сочетающихся, выбор и компоновка которых не детерминированы строгими соображениями историко-культурного порядка. «Слишком явное смешение древних обычаев мифологии с обычаями жителя подмосковной деревни», за которое упрекал Батюшкова Пушкин [13] [Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. В 16 т. М.. 1949. Т. 12. С. 273], не оплошность, а сознательно примененный принцип: в жилище поэта все теряет свою предметно-бытовую значимость и становится атрибутом мира художественного творчества, мира духовной культуры. В этом мире «существа идеальные» не только Музы, Лиры или возлюбленная поэта, но и суворовский солдат. Несмотря на «осязаемую конкретность» деталей, идеал у Батюшкова вообще никоим образом с «существенностью» не соприкасается: они не взаимодействуют в конфликтном столкновении и не взаимодополняют друг друга, сглаживая противоречие, находятся как бы в разных измерениях. В послании И.М. Муравьеву-Апостолу о поэте сказано:
Идеал, таким образом, не противопоставляется действительности, а существует «в замену», вопреки ей. Поэтому «дни мечтой позолотим» («Ответ Гнедичу») у Батюшкова не значило: приукрасим «существенность»; скорее, имелось в виду другое: наполним нашу жизнь чувством причастности к нетленным ценностям духовной культуры. И скромный быт преобразится, станет поэтическим бытием. Батюшков, адресуясь к другу, пишет: «Но я безвестностью доволен в Сабинском домике моем»,- и переживает свое уединение как Гораций, вместе с Горацием, в одном духовном измерении с Горацием. Такова идиллия Батюшкова, хрупкая сфера существования его идеала. Выбор между природой и цивилизацией решался поэтом в пользу цивилизации. «Докультурное» состояние, блага которого так превозносили многие просветители, его не вдохновляло. Но то же состояние, воплощенное в искусстве, в произведениях Касти или Парни, приобретало в его глазах ценность и смысл. Представление о цивилизации в сознании Батюшкова было тесно связано с эстетической деятельностью, и успехи цивилизации, по его мнению, сильнее всего проявлялись в сфере художественного творчества. Иные же ее продукты, как-то: экономика, политика, государственность – вызывали у Батюшкова стойкую и глубокую неприязнь. Однако все это была «существенность», не считаться с которой совершенно он не мог: нужно было материально обеспечивать себя и сестер, нужно было участвовать в войнах, служить по дипломатической части, нужно было, считаясь с общепринятыми правилами, пытаться создать семью. А радость ему доставляли, главным образом, литературные занятия, общение с друзьями-писателями (преимущественно по почте, на бумаге). Говоря об идиллии в творчестве Батюшкова, неизбежно приходится ставить вопрос, каков ее литературный статус, то эстетическое качество, в котором она выступает. Ясно, что это не жанр, а нечто иное. Как исторически сложившиеся типы устойчивой структуры литературного произведения, жанры у Батюшкова существенной роли не играли. Многие его стихотворения в жанровом отношении довольно неопределенны, неоднозначны, в них совмещены признаки разных жанров. С данной точки зрения поэт не уникален, то же самое можно было бы сказать о многих его современниках. Особенности литературного движения начала XIX века породили потребность в такой эстетической категории, которая воплощала бы в себе представление об идейно-эмоциональной настроенности как способе эстетической регуляции отношений художника и действительности, как основной форме проявления творческой индивидуальности. Прочный теоретический фундамент под эту категорию был подведен Белинским, но процесс ее кристаллизации начался значительно раньше и протекал под сильным воздействием идей немецкой классической эстетики. В частности, предложенная Шиллером система видов сентиментальной поэзии представляла собой расширенный вариант трактовки становящейся категории с позиций предромантизма. И надо сказать, что специфику литературного творчества предромантической и собственно романтической эпохи его трактовка выражала удачно. Кое-какие осложнения могли возникнуть в связи с терминологией, жанровой по своему происхождению, а потому порождающей нежелательные, побочные ассоциации; ведь Шиллер специально подчеркивал, что его сатира, элегия и идиллия «как три единственно возможных рода сентиментальной поэзии, – не имеют с тремя основными видами стихотворных сочинений, которые известны под теми же наименованиями, ничего общего, кроме характера восприятия, присущего им» [14] [Шиллер Ф. Т. 6. С. 439]. Но что-то общее все-таки было, и использование терминов, уже обладающих определенным значением, имеющих давнюю традицию употребления» было не случайным. В системе отношений, разработанных Шиллером, «характер восприятия», свойственный тому или иному жанру, можно было бы определить как «пафос жанра». Новое понятие, обозначен» старым термином, воздействовало на содержание понятия, по отношению к которому термин первоначально применялся. Так стало возможным, например, видеть в сатире жанр, наиболее полно и ярко выражающий сатирический пафос, а специфику творчества того или иного писателя устанавливать путем выявления доминирующего жанрового пафоса, Жанр утрачивал свойства категории, рассчитанной на адекватное воплощение в отдельном произведении. Воплощать тот или иной пафос могла структура, соотносимая по традиции с другим жанром. У Жуковского, например, явно доминирует элегический пафос. В какой-то мере он окрашивает любой жанр, которому обращался художник на протяжении своего творческого пути. «Теон и Эсхин» по характеру использованного историко-культурного материала, по формам его репрезентации, по особенностям субъектной организации больше напоминает идиллию, но преобладает в произведении пафос элегический, равно как и в балладах «Ахилл», «Торжество победителей» или в стихотворении под названием «Песня» («О милый друг! теперь с тобою радость»). Примечательно, что понимание Жуковским целей и задач художественного творчества весьма близко к шиллеровской характеристике элегии как сентиментальной поэзии. Он с глубочайшей заинтересованностью и жаром воспринял тезис Гоголя «Искусство есть примирение с жизнью», так как его собственное творчество этому тезису соответствовало. Поэзия, в понимании Жуковского, должна быть «возвеличением, убранством и утехою жизни», чтобы она «стремила душу к высокому, идеальному и благородствовала жизнь, украшая ее строгую, часто печальную существенность венком надежды...» [15] [Жуковский В.А. Эстетика и критика. М., 1985. С.337]. Вяземский считал, что Батюшков «первый с таким успехом и блеском усвоил поэзии нашей элегическую стихию» [16] [Вяземский П. А. Полное собрание сочинений. В 12 т. СПб, 1879. Т. 2. С. 415]. «Элегическая стихия» – это то же самое, что «элегический пафос». Но можно ли считать, что она, эта «стихия», у Батюшкова и у Жуковского одинакова по характеру и степени важности? Ведь ни на какое примирение идеала и существенности Батюшков идти не хотел. Сам его идеал был лучшим свидетельством бескомпромиссности позиции художника. «Элегическая стихия» Жуковского целиком сосредоточена на переживании разобщенности идеала и действительности в этом мире. Оно, это переживание, – главное, идеал дан лишь как предчувствие, надежда, слабый отблеск. Элегический пафос Жуковского умеряет неистовые порывы человеческого духа, гармонизирует внутренний мир. В его стихах господствует «сладостная меланхолия», которая была для современников поэта «порождением эстетического преобразования всего того печального, трагического и горестного, что неизбежно в жизни, /.../ «поэтическим утешением» [17] [Лихачев Д.С. Земля родная. М., 1983. С. 47-48]. «Элегическая стихия» в творчестве Батюшкова тоже присутствует, однако только как повод к эстетической реализации идеала, к утверждению его с помощью самых эффективных средств, которыми располагает поэт, и потому она у поэта не главная. Батюшков от нее отталкивается, чтобы утвердиться в совершенно иной области. Это и дает основания именовать ведущий пафос творчества Батюшкова идиллический. Создание поэтической идиллии было главной целью и самым значительным итогом его литературной деятельности. Это не равнозначно утверждению, что большинство произведений Батюшкова следует рассматривать как идиллии. Речь идет о пафосе, о «стихии», а не о жанре. Пафос придает целостность творчеству поэта, жанр – отдельному произведению. Реально, конечно, может так случиться, что произведения, принадлежащие к тому жанру, который непосредственно и ярко выражает доминирующий пафос творчества писателя, и по количеству решительно у него преобладают или во всяком случае составляют значительную часть литературного наследия (оды у Ломоносова, например). Но чаще происходит другое: ведущий пафос художника не имеет определенного жанрового аналога (Державин) или имеет, но по каким-то причинам произведения, жанр которых однозначно детерминирован пафосом, у данного поэта ведущим, представлены в его творчестве весьма скупо. У Батюшкова идиллий в собственно жанровом смысле нет. Однако есть произведения, где господствует идиллический пафос. Формы его проявления чрезвычайно разнообразны. Существование лирического героя в стихотворениях «Вакханка», «Ложный страх», «Радость» ничем не омрачено, он беззаботно счастлив. Несмотря на то, что в первом сильнее античный колорит, а два других более отчетливо демонстрируют близость к рококо, все три произведения – одного плана. Батюшковские представления о «золотом веке» не имели временной и культурно-исторической определенности, хотя как один из образов искусства, с эстетической точки зрения, «золотой век» мог заинтересовать поэта и в таком качестве получить отражение в его творчестве (например, в вольном переводе 3-й элегий из I книги Тибулла). В «Источнике» простые (но по-батюшковски, не без изящества описанные) любовные радости «естественного человека» поставлены в прямую зависимость от неудержимого бега времени, которое «погубит и прелесть, и младость». Отсюда и накал страсти, и легкая грусть, сопутствующая «восторгам». «Таврида», несмотря на то, что в ней также главное место занимает описание счастья двух влюбленных «под небом сладостным полуденной страны», в «древней Греции священных местах»,- произведение, глубоко отличное от предыдущих. Для лирического героя «Тавриды» реальность – «жестокий жребий», «рок», «несчастий», «имена фортуны и честей», а антикизированная идиллия – игра воображения, правда, настолько сильного, что под конец мечта обретает большую убедительность, нежели мир, из которого герой жаждет вырваться. Идейно-эстетическую позицию Батюшкова это произведение выражает полнее и точнее, чем упомянутые ранее. Здесь уже ясно видно, как идиллический пафос у Батюшкова утверждается через преодоление элегической стихии. Поэтому и есть основания сомневаться в правильности решения считать «Тавриду» элегией, как, впрочем, и «Источник» тоже. Однако наиболее развернуто, многосторонне, последовательно и наглядно (хотя, может быть, и не наиболее значимо эстетически) доминирующий пафос творчества Батюшкова представлен в тех произведениях, где лирическим героем является поэт; творец, личность, близкая автору не только в силу чисто эмоциональных симпатий. Это своего рода исповедь, кредо художника, где выражение концепции собственного творчества, основ своего миропонимания становится сюжетом произведения. Среди стихотворений подобного рода наиболее значительными являются «Мечта» и «Мои пенаты». Не случайно оба написаны в форме обращения (послания): к друзьям, к мечте, т.к. автору необходимо в данном случае наличие адресата (реального или чисто условного)t чтобы иметь повод высказаться с наибольшей полнотой. В этих произведениях и следов жанровых взаимодействий больше, чем в других, поскольку здесь автор касается всех сфер, важных для него. И самый, пожалуй, показательный момент – обзор художественных миров любимых писателей. Он убедительно свидетельствует, что идеал Батюшкова – в сфере художественной культуры, что его идиллия – там. Источник: Баранов С. Ю. Идиллия в творчестве К. Н. Батюшкова / С. Ю. Баранов // Развитие жанров русской лирики конца XVIII – XIX веков. : межвуз. сб. науч. тр. – Куйбышев, 1990. – С. 52–64. – Библиогр. в конце ст. |
|||||||