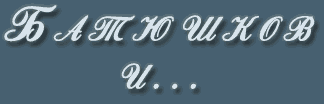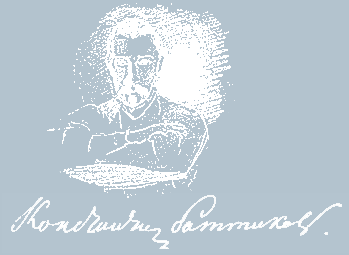
Титульный
лист |
О. А. Проскурин.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Видимо, первым наметил контуры столь популярной впоследствии антитезы С. С. Уваров в рецензии на батюшковские «Опыты в стихах и прозе»: «Жуковский более красноречив и устремлен ввысь. Батюшков же изысканнее и законченнее; один смелее, другой не оставляет ничего на волю случая; первый – поэт Севера, второй – поэт Юга» и т.п. [1] [Le Conservateur Impartial. 1817. № 83. P. 414. Цитируется по переводу В. А. Мильчиной в изд.: Арзамас: Сб. в двух книгах. М.: Худ. лит., 1994. Кн. I. С. 96]. Эта идея была подхвачена и развита П. А. Плетневым [2] [Плетнев П. А. Заметка о сочинениях Жуковского и Батюшкова. – Плетнев П. А. Статьи. Стихотворения. Письма. М.: Сов. Россия, 1988. С. 24-28], не раз варьировалась в журнальных статьях 1820–1830-х гг. и, наконец, была – на новых основаниях – канонизирована В. Г. Белинским, приспособившим ее к своей гегельянской формуле литературного развития [3] [Белинский В. Г. Сочинения Александра Пушкина. Статья третья. – Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М.: Изд. АН СССР, 1955. Т. 7. С. 224. Впрочем, как всегда у Белинского (чего нельзя сказать о его новейших последователях), жесткость доктрины смягчена исключительным литературным чутьем критика (см., например, с. 240 и след.)]. У современных историков литературы эта концепция, лишившись «философского» обоснования, приобрела черты истины, в общем, не требующей доказательств. Такой подход, «разводящий» пути двух поэтов, как бы дезавуирует известное высказывание Пушкина о «школе, основанной Жуковским и Батюшковым» [4] [Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.; Л., 1949. Т. 11. С. 110]. Между тем суждение Пушкина примечательно не только как мнение человека, более чем компетентного в вопросах поэзии: оно, как это ни парадоксально, также восходит к уже знакомой нам традиции, заложенной Уваровым и Плетневым. Ибо, отмечая черты несходства между двумя поэтами, Уваров вместе с тем подчеркивал, что Жуковский и Батюшков – «блестящие представители» одной («новой») поэтической школы; равным образом и для Плетнева Жуковский и Батюшков вместе «начали новый период русской поэзии» [5] [Арзамас. Кн. 2. С. 96, Плетнев П. А. Статьи. Стихотворения Письма. С. 24]. Самое подчеркивание первыми интерпретаторами несходства Жуковского и Батюшкова было вызвано отчетливым ощущением их близости: чтобы читателем, еще только осваивавшим эстетические принципы новой школы, эта близость не была воспринята как тождественность, чтобы новая поэзия изначально предстала перед ним в богатстве и многообразии оттенков, чтобы Батюшков не был поспешно осмыслен как «эпигон» Жуковского, – для этого и потребовалось специально акцентировать черты несходства между двумя близкими поэтическими мирами. Позднейшие критики и исследователи, забывшие реальный культурный и литературный контекст суждений и оценок современников, необычайно увлеклись манифестацией (не исследованием!) различий, либо полностью игнорируя родство, либо усматривая его в том, что Батюшков и Жуковский в равной мере «гармонизировали» язык русской поэзии (обстоятельство как раз наиболее спорное: слишком уж в разных направлениях шла у них эта «гармонизация» и к слишком разным результатам приводила!) [6] [Суммарно говоря, стихи Жуковского по преимуществу «напевны», стихи Батюшкова – за единичными исключениями – «петь» нельзя. Эта разница проявляется на всех уровнях словесной организации текста – ср. «подчинение» фоники песенной ритмике у Жуковского и обратное явление у Батюшкова; доминирование гласных в создании мелодического рисунка стиха у Жуковского – и явное главенство согласных у Батюшкова, при особой склонности поэта к игре на сочетаниях сонорных, требующих артикуляционного напряжения и тем самым вступающих в резкое противоречие с принципами «песенной» поэтики. Совершенно справедливо в этой связи заметил Ю. П. Иваск: «Языковая мелодика Батюшкова в известной схеме Эйхенбаума не принята во внимание, не учтена. Это мелодика – не декламационная (Державин), не напевная (Жуковский), не говорная (некоторые строфы «Евгения Онегина»). Это мелодика – не громкой речи, не песенного лада, не разговорных интонаций, а медленного плавного чтения. Это чистая поэзия, зависимость которой от любой прозы, а также от пения, напева – минимальна» (Иваск Ю. Батюшков. – Новый журнал. 1956. Кн. 46. С. 71). Можно предположить, что разные принципы организации стиховой речи у Жуковского и Батюшкова объясняются – по крайней мере, отчасти – разными культурно-бытовыми контекстами их поэтического творчества. Для Жуковского это традиция домашнего музицирования и пения, процветавшая в тульско-орловских «культурных гнездах»; для Батюшкова – традиция сценического декламирования, но не «архаического», а «модернизированного», представленного в лирических («элегизированных») монологах трагедий Озерова, исполнявшихся Е. Семеновой]. В итоге самая картина литературного движения начала 19 века оказалась в значительной степени искаженной. Крайне примитивизирован был литературный облик Батюшкова, превратившегося в «стихийного материалиста» и «певца земных радостей и наслаждений». Показательно, что Н. В. Фридман, автор монографии, специально посвященной поэзии Батюшкова, вообще исключил из сферы анализа те стихотворения, которые противоречили этому облику (среди них – почти все вершинные достижения Батюшкова-поэта) [7] [Впрочем, желая показать, что «любовь к «земному», «чувственному миру» никогда не оставляла Батюшкова, что «стихийно-материалистическая основа его мировоззрения не была разрушена», Н. В. Фридман прибегает к любопытным аргументам: «Даже религиозные образы в элегиях Батюшкова 1815 г. удивительно конкретны и пластичны (например, образ «струя небесных благ» в элегии «Надежда»)» (Фридман Н. В. Поэзия Батюшкова. М.: Наука, 1971. С. 188)]. При изучении литературного движения эпохи завороженность схемой приводила порою прямо-таки к анекдотическим результатам: в академической «Истории русского романтизма» в качестве свидетельства исключительного влияния Жуковского на поэзию современников приведены тексты, целиком построенные на парафразах из... Батюшкова! [8] [См.: Шаталов С. Е. Утверждение романтизма в русской литературе 1810-х годов. – История романтизма в русской литературе: Возникновение и утверждение романтизма в русской литературе (1790–1825). М.: Наука, 1979. С. 152–153. Как пример сочинения, написанного «буквально "по Жуковскому"», приведена элегия В. Туманского «Монастырь» – рабскую зависимость которой от элегии Батюшкова «На развалинах замка в Швеции» немедленно отметили современники (см. об этом: Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры: «Элегическая школа». СПб: Наука, 1994. С. 58). Подражание Жуковскому усмотрено и в следующих стихах из «Тирсиса» В. Панаева: «И полная луна востока выплывала // По тусклой синеве безоблачных небес». Нужно было обладать редкой поэтической глухотой, чтобы в первом стихе не увидеть старательного копирования эвфонических приемов Батюшкова, а во втором – почти буквального повторения стиха из «Тени друга» («В бездонной синеве безоблачных небес»)] Разумеется, разница – и немалая – между поэтическими мирами Батюшкова и Жуковского действительно существует: художественно чуткие современники констатировали ее не напрасно. Но чтобы увидеть ее по-настоящему, требуется сначала определить и осмыслить глубинное родство: только осознав сходство, можно понять несходство – и не только на уровне внешнем (а потому часто поверхностном и не самом важном), но и в оттенках, нюансах, часто ускользающих от поверхностного взгляда. Работы, в которых отношения двух поэтических систем не сводятся к плоскому противопоставлению «мистического идеализма» и «жизнеутверждающего гедонизма», «мерцающих полутонов» и «пластической конкретности», пока еще единичны. Среди них первое по значимости место, бесспорно, принадлежит новому исследованию В. Э. Вацуро «Лирика пушкинской поры: Элегическая школа» (1994). Замечательный исследователь и знаток русской поэзии 19 века имел здесь все основания отметить: «Пушкин, ученик Батюшкова и Жуковского, не только близко знавший обоих поэтов, но и с необычайной чуткостью улавливавший тончайшие различия их поэтических систем и поэтического мировоззрения, вовсе не случайно рассматривал эти последние все же как некую общность – «поэзию гармонической точности», и только позднейшая историография сделала сильный акцент на индивидуальных особенностях, оставив за Жуковским «серафический», «мистический», идеальный поэтический мир и отведя Батюшкову мир чувственно-языческий. Уже Г. А. Гуковский стал разрушать это представление, обратив внимание на субъективный характер батюшковской античности, на ее идеализирующий смысл, но ограничил свои наблюдения более всего областью стиля. Между тем субъективно-идеализирующее начало сказывается и в самом поэтическом мироощущении Батюшкова и накладывает свой отпечаток на тип лирического героя» [9] [Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры. С. 103–104]. Это утверждение не осталось декларацией: оно с блеском и полкой убедительностью доказано во многих местах новой книги. Сделанные ученым наблюдения и выводы прокладывают путь для дальнейшего изучения проблемы. Настоящая статья – не претендующая на полноту и исчерпывающее разрешение вопроса попытка следовать в направлении, заданном трудом В. Э. Вацуро, Хотя большинство заметок, составивших основу этой статьи, относится, видимо, к тому же времени, что и книга об элегической школе, однако именно публикация книги стимулировала их продолжение и сведение в некоторую систему. * * * Всякая попытка исследовать проблему «влияний» и творческого диалога ставит исследователя перед двойной опасностью. С одной стороны, всегда существует соблазн принять за проявления индивидуального влияния то, что было «общим местом» (топосом) литературного сознания той или иной эпохи. С другой стороны, есть опасность из излишней осторожности персональное влияние объявить воспроизведением «общих мест». И если опасность первого рода (принять общее за индивидуальное) чаще всего подстерегает дилетантов, слабо знающих литературный контекст (хотя далеко не только их!), то опасность второго рода (отказ видеть в многократно повторяющемся признаки индивидуальной системы) зачастую оказывается оборотной стороной эрудиции и превосходного знания материала.
А вот как звучат стихи Батюшкова:
Приведя эти тексты, В. Э. Вацуро резюмирует: «Строки восходят к «Страху» («La Frayeur») Парни, отсюда и текстуальная близость» [13] [Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры. С. 99]. Между тем понятно, что образы и мотивы литературного текста получают свое бытие только через словесное выражение. Отвлекаясь от соотнесенности с языковым рядом, можно говорить разве что о тематическом параллелизме – применительно к лирической поэзии вещи далеко не самой важной. Сами по себе темы не могут продуцировать текстуальной близости – если понимать под нею лексические, синтаксические, ритмические и тому подобные схождения. Если подойти к проблеме именно с этой стороны, то нельзя не заметить нескольких знаменательных моментов. Самая лексическая близость двух русских поэтических текстов в некоторых опорных словах-символах (т.е. там, где всего более следовало ожидать воздействие общего иноязычного источника) заставляет усомниться в равной инспирированности их текстом Парни: например, Вакх как перифрастическое обозначение дружеских застолий – образ, равно значимый для стихов и Батюшкова, и Милонова, – отсутствует в «La Frayeur». Разительное сходство синтаксической структуры текстов (в частности, последовательное опущение предикатов в перечислительных конструкциях) еще в меньшей степени может быть объяснено влиянием общего источника: у Парни, в полном соответствии с жесткими законами французского языка, все сказуемые стоят на своем месте (A mes amis j'en donnerais un quart. Le doux sommeil aurait semblable part: Et la moitie strait pour ma maitresse) [14] [Рату Е. CEuvres. Tome premier. Paris: De L'imprimerie de P. Didot L'Aine, 1808, F. 19]. Далее: четырехстопный хорей, использованный и Батюшковым, и Милоновым, вовсе не является напрашивающимся эквивалентом для французского одиннадцатисложника (в позднейших попытках «эквиметрических» переводов в аналогичном случае был бы использован пятистопный ямб). И уж тем более Парни никак не мог предопределить фонетически и даже лексически тождественной рифмовки: фигурально выражаясь, «единой» и «половиной» он не рифмовал! Может быть, взятые по отдельности, все эти факты были бы и недостаточными для сколько-нибудь определенных выводов. Но в своей совокупности они могут служить достаточно твердым подтверждением того, что бросающаяся в глаза близость двух текстов объясняется не общим иностранным источником и не обращением к общему резервуару расхожих мотивов, а в первую очередь непосредственной ориентацией одного русского автора на другого. Конкретная – русская – поэтическая система оказывается той призмой, сквозь которую воспринимается более широкая литературная традиция, и тем каналом, через который осуществляется подключение к ней. Конечно, далеко не все случаи обнаруживаемого параллелизма дают столь развернутую и столь многоуровневую систему соответствий. Чаще приходится сталкиваться с куда меньшим числом совпадений. Однако и в таких случаях сам принцип установления возможности конкретного «влияния», как представляется, сохраняет свою корректность: увеличивается степень гипотетичности полученных; результатов, но не степень исследовательского произвола. * * * Батюшков вступил в литературу, когда Жуковский был уже достают известным автором, причем с каждым годом эта известность возрастала. Однако ранние опыты молодого поэта почти не несут на себе следов посредственного поэтического воздействия Жуковского: Батюшков до поры ориентировался на другие традиции. Обращение к Жуковскому происходит около 1809 г. – когда Батюшков переживает острое разочарование в прежних жанрово-эстетических ориентирах и начинает искать новых путей для поэзии.
Восходящие к Жуковскому мотивы затем как бы объединяются и вновь возникают уже в 4-й, заключительной, строфе, причем соответствующая фразеология «Сельского кладбища» сохраняется:
Следует отметить, что при повторном реминисцировании выявляются еще не использованные элементы первоисточника: так, если первая реминисценция зачина «Сельского кладбища» держалась на рифмующем слове «горою», то вторая отсылка к тому же стиху воспроизводит семантически насыщенный предикат «бледнеет». Отметим эту особенность цитирования: она лишний раз свидетельствует, что перед нами не случайное совпадение, а осознанная игра с источником. Эта особенность «интертекстуализма» произведений Батюшкова еще пригодится нам при дальнейшем анализе. Возможно, отсылает к Жуковскому и рассредоточенное в двух строфах описание домашних радостей крестьянской жизни (в «Сельском кладбищ» эти радости отнесены к минувшему земному бытию тех, кто ныне спит «в гробах уединенных»). Внешнее, бросающееся в глаза сходство между текстами Батюшкова и Жуковского проявляется, прежде всего, на лексико-фразеологическом уровне, причем мотивы, воплотившиеся в сходных словесных формулах и понятиях, вовсе не относятся к числу центральных, «темообразующих» в «Сельском кладбище». Батюшков выделяет в тексте Жуковского элементы не элегической, а идиллической, в первую очередь «патриархально-идиллической» топики. Атрибутами этой топики для него оказываются не только освященные традицией тематические мотивы, но, прежде всего, особого типа язык. Предпосылки такого языка Батюшков и обнаруживает и элегии Жуковского. Отличительные признаки его – новая функция архаизирующего стиля. Славянизмы выступают здесь не как знак «патриархальной простонародности». Но, вместе с тем, устойчивый «высокий» семантический ореол, традиционно закрепленный за славянизмами, как бы сублимирует эту патриархальность, делает ее сопричастной благородной «старине» и в конечном итоге вечности. Патриархальность оказывается включена в разряд космически значимых ценностей и превращена в сферу, вполне соизмеримую и сопоставимую с рефлексиями интеллектуально и эмоционально утонченного лирического героя. Батюшков проницательно почувствовал такую перестройку семантических функций архаики в «Сельском кладбище» (вообще говоря, особенно явную в допечатном тексте и существенно редуцированную в тексте «Вестника Европы», за счет общего уменьшения числа славянизмов) – и попытался ее развить и даже несколько форсировать. Общее количество славянизмов, особенно в соотношении с достаточно скромным объемом стихотворения, столь велико (селянин, бремя, стопа, оратай, брашна, игралище, рыбарь, пажити, вертепы, нощь и пр., не говоря о славянизмах морфологических) и вступает в столь резкий контраст с хронологически близкой лирической продукцией Батюшкова, что сознательное экспериментально-стилистическое задание соответствующего приема едва ли может быть подвергнуто сомнению. Но, прилагая столь значительные усилия для создания «патриархально-идиллического» («рустического») языка, Батюшков вовсе не намеревался писать идиллию. Идиллический мир (и, следовательно, соответствующий язык) требовался ему как фон, как значимый компонент особого типа элегии. Это элегия, строящаяся на контрасте гармонического патриархального бытия и волею обстоятельств отчужденного от него индивидуума. Именно так будут построены элегические тексты, составляющие ближайший хронологический контекст «Вечера», – прежде всего элегии «из Тибулла». По-видимому, «Вечер» предшествует им во времени, оказываясь своего рода «протоэлегией». На этом «ситуативном» уровне и выступает глубинная (а не поверхностная) связь между Батюшковым и Жуковским: самая лирическая ситуация «Вечера», заданная канцоной Петрарки, проецировалась на эмбриональный лирический сюжет «Сельского кладбища», таящийся за первичным «кладбищенским» сюжетом, – противопоставление нерефлективного патриархально-целостного мира и рефлексирующего героя, которого самая способность к рефлексии, самое ощущение неполноты счастья навсегда отделяет от этого мира и его органических ценностей. То, что у Жуковского присутствовало в виде фона, некоей элегической потенции, Батюшков выдвинул на первый план. Опыт Жуковского оказывался значим и важен для Батюшкова и еще в одном отношении. Жуковский использовал «чужое слово» для выражения собственных эмоций и в известном смысле для описания собственной биографической ситуации (во всяком случае, для описания своей «внутренней» биографии). Этот биографизм звучал для читателей 1800-х гг., видимо, даже сильнее, чем первоначально входило в задание поэта: фоном для биографической реинтерпретации «Сельского кладбища» должны были служить последовавшие за греевским переводом сочинения – такие, как соименная батюшковскому стихотворению элегия «Вечер» (текст с уже совершенно очевидными автобиографическими мотивами и в то же время настолько явно связанный с «Сельским кладбищем», что автобиографический отсвет от него не мог не падать на содержание последнего). Итак, свое выражается здесь через чужое: самая биография поэта, таким образом, как бы воспринимается сквозь призму авторитетных прецедентов, подключается к их ряду и получает право стать «литературным фактом». Отсюда оказывается возможным истолкование «Сельского кладбища» как поэтически точного перевода Грея, как аутентичного отражения его, Грея, эмоций и переживаний, и одновременно как «биографии души» Жуковского. Это обстоятельство оказывалось чрезвычайно важным для Батюшкова, который в «Вечере» также попытался выразить свое через чужое, факты собственной биографии заключить в контуры текста Петрарки. Известно, что после ранения под Дрезденом Батюшков провел некоторое время на лечении в доме рижского купца Мюгеля, с дочерью которого у него завязался роман. Бесплодно гадать, насколько он был глубок и продолжителен. Важно другое: сам Батюшков пожелал придать ему в созидаемом им биографическом мифе весьма значительное место. Во всяком случае, поэт счел возможным много лет спустя сделать его достоянием карамзинистского кружка, и Дашков еще в 1814 г. будет в письме к Вяземскому острить насчет загадочной рижской красавицы [19] [См. письмо Д. В. Дашкова П. А. Вяземскому от 25 июня 1814 г. – Арзамас. Кн. 2. С. 226]. Судя по всему, уже очень рано рижский роман был задним числом стилизован по «петраркистской модели», что очень наглядно следует из «Воспоминаний 1807 года» (полной редакции текста) [20] [По традиции «Воспоминание» датируется 1807 г. – на том основании, что в первопечатной редакции текст имел заголовок «Воспоминание 1807 г.». Такая Датировка – явное недоразумение: авторское обозначение года несомненно отсылает не ко времени написания текста, а ко времени отразившихся в нем событий, то есть как раз дистанцирует событие и его поэтическое отражение. В. А. Кошелев предпочел компромиссную датировку: «Написано в 1807–1809 гг.» (Б, I, 452). 1809 г. как дата «Воспоминаний» представляется, однако, наиболее вероятным]. Для такой стилизации материал готовился в «Вечере», что явствует из сличения концовок двух стихотворений. «Вечер» заканчивается картиной, отсутствующей у Петрарки:
Никакой «тени Лауры» в 50-й канцоне нет. Зато совершенно аналогичный образ (но детализированный и развернутый) завершает «Воспоминание»:
Излишне (для наших целей) подробно разбирать все «петраркистские» детали этого образа. Важно отметить другое: для того чтобы они могли войти во вполне уже оригинальное стихотворение Батюшкова, потребовался опыт «Вечера», где поэт еще тесно связан с чужим оригиналом, но где чужой текст уже служит материалом для выражения собственного чувства. Итак, поэтически чувствовать и поэтически переживать любовные коллизии молодой Батюшков учится в первую очередь у Петрарки, поэтически выражать свое чувство – у Жуковского. И если одна часть этих уроков – эксперименты по созданию «рустического стиля», – отразившись в нескольких ярких текстах рубежа 1800–1810-х гг., вскоре будет оставлена, то другие – связанные с разработкой лирической коллизии – будут иметь свое продолжение. Сближение Жуковского и Петрарки, наметившееся в художественном сознании молодого Батюшкова, впоследствии будет глубоко осмыслено и воспринято как принципиально важное. Время личного знакомства (1810), а затем тесного сближения Батюшкова и Жуковского принято трактовать как период наиболее значительного литературного отталкивания Батюшкова от поэзии его нового друга. Батюшков, только что преодолевший очередной духовный и литературный кризис, как раз в эту пору пытается разработать новый тип русской «анакреонтейи» (опосредованной Парни), а затем – новый тип дружеского послания, в значительной степени вобравший в себя горацианско-анакреонтический опыт. На этом пути Батюшкова ждали блестящие удачи, оказавшие значительное влияние на весь строй русской поэзии: в глазах многих исследователей литературный облик Батюшкова по сей день ассоциируется в первую очередь с его творчеством 1810–1813 гг. Поэт так и остался для них «русским Парни». Этот путь с неизбежностью, казалось бы, должен был уводить Батюшкова в сторону от линии поэтических исканий Жуковского. Многое вроде бы говорит за то, что так оно и было на самом деле. Комментаторы давно уже обнаружили факты шутливо-иронического цитирования и комического переосмысления текстов Жуковского в сочинениях Батюшкова начала 1810-х гг. На основании обнаруженных фактов исследователи нередко делали выводы о «борьбе» Батюшкова с Жуковским, о его «протесте» против мистического спиритуализма и бесплотного идеализма. Насколько, однако, подобные мнения справедливы? В своей новой книге В. Э. Вацуро едва ли не впервые выявил и сделал предметом анализа период поэтического «горацианства» Жуковского, пришедшийся на 1809–1813 гг. (т.е. как раз на годы сближения с Батюшковым и «анакреонтических» увлечении последнего!) и пришел к неожиданному для традиционного историко-литературного сознания выводу о том, что и применительно к этой поре можно говорить о «параллелизме литературного развития» двух поэтов, приводящем к сходным художественным результатам «почти с фатальной закономерностью» [21] [Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры, С. 93, 55]. «Параллелизм развития» эстетических систем не исключал возможности спора и даже полемики относительно мировоззренческого содержания этих систем. Однако самая направленность этого спора, как представляется, была диаметрально противоположной той, что рисовалась воображению большинства исследователей. К февралю 1810 г. относится один из первых опытов Батюшкова в новом роде – стихотворение «Привидение», представляющее собой вольный перевод «Le Revenant» Парни. Именно в этом тексте исследователи усматривали острую полемику с Жуковским – на том основании, что в нем обнаруживается перефразированная и помещенная в новый контекст строка из «Людмилы» Жуковского. «В час полуночных явлений» (у Жуковского: «В час полуночных видений»; отметим также использование Жуковским лексически более близкого «Привидению» варианта этой формулы в «"Гимне" (Из Томсона)»: «И в час торжественный полночного явленья»). Однако этот шутливый «полемический жест» – лишь часть более широкого и значительного диалога. Приступая к переводу Парни, Батюшков не мог не помнить, что в русской поэзии уже существовал чрезвычайно интересный прецедент сочинения, посвященного аналогичной теме – загробной любви и посмертному спиритуальному явлению возлюбленного живой подруге. Это стихотворение Жуковского «К Нине» (1808; опубликовано в 1809 г. в «Вестнике Европы»). Вслед за Веселовским его обычно считают обращенным к Маше Протасовой [22] [См.: Веселовский А. Н. В. А. Жуковский: Поэзия чувства и «сердечного воображения». СПб, 1904. С. 119–120], что, в общем, справедливо, хотя, конечно, героиня стихотворения – не столько реальная пятнадцатилетняя Маша, сколько вообще идеальный объект любви, феномен которой в ту пору страстно занимал Жуковского. Стихотворение оказывалось соотнесенным с тогда же написанной «Песней» («Мой друг, хранитель ангел мой...»), которая также считается – и с еще большими основаниями – обращенной к Маше Протасовой, что не мешает ей быть переводом – и довольно точным – стихотворения Фабра д'Эглантена. Не исключено, что и в основе послания «К Нине» лежит какой-то (пока не обнаруженный) иностранный источник. Как бы то ни было, перед нами явно экспериментальные опыты по созданию любовной лирики принципиально нового для русской поэзии типа [23] [Об экспериментальном характере стихотворения «К Нине» свидетельствует, между прочим, и его стихотворный размер – нерифмованный четырехстопный амфибрахий со сплошными женскими клаузулами – стих, уникальный не только для тогдашней поэзии Жуковского, ко и вообще для всей русской поэзии начала века. М. Л. Гаспаров связывает распространение в ней амфибрахия с балладой, в частности с балладами Жуковского (1814–1816). По его мнению, выход амфибрахия «за пределы балладного жанра» происходит у того же Жуковского – в «Теоне и Эсхине» (Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха: Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика. М.: Наука, 1984. С. 119, 120. Между тем, как видим, дело обстояло несколько иначе: размер впервые апробируется как раз в лирике и из нее приходит в балладу (характерно, что «Теон и Эсхин» в жанровом отношении – промежуточная форма)]. Они очень тесно связаны с религиозно-этическими исканиями Жуковского 1800-х гг. В эту пору Жуковский-поэт пытается преодолеть остро ощущаемую трагедийность жизни посредством argumento ad religionis – опоры на общепринятые религиозные ценности. Однако религия, воспринятая как авторитетная система представлений, но не пережитая лично, парадоксальным образом оказывается (по крайней мере, до середины 1810-х гг.) формой рационалистического обоснования оптимизма. В самой своей религиозности Жуковский еще остается сыном 18 столетия. В послании «К Нине» религиозный постулат - вера в бессмертие – делается аргументом для рационалистического снятия проблемы страдания в любви, ибо в обетованном трансцендентном соединении любящих земная любовь не только продолжится, но и обретет, наконец, свое идеальное претворение. Разумеется, к реально-эмпирическому пласту биографии Жуковского все это имело весьма отдаленное отношение все, что нам известно о тогдашних биографических обстоятельствах поэта, говорит о том, что его настроения и эмоции были далеки от безмятежного спокойствия. В поэзии довоплощалось то, что не удавалось воплотить в жизни. Результатом поэтического воплощения новой «идеологии любви» оказалось создание новой формы медитативной любовной лирики. Это было некое боковое движение в сторону от элегии: центральный элегический мотив – утраты, «необладания» – оказывался здесь устраненным. Устранялся и эротически-чувственный момент, что позволяло переключить тему в чисто спиритуальный модус и облегчить ее оптимистическое (так сказать, «антиэлегическое») решение. Экспозиционная часть послания «К Нине» вводит ключевую тему: заканчивается ли любовь после окончания земной жизни? 11 вопросов с десятью анафорическими «Ужели?» искусно варьируют нюансы этой темы, чтобы, наконец, подвести к эффектному ответу:
Этот тезис «иллюстрируется» затем картинами посмертного общения умершего с оставшейся на земле возлюбленной. Но чтобы развернуть соответствующие картины, Жуковский предварительно вводит в стихотворение тему скорой (и ранней) смерти – тему, уже апробированную им в ряде стихотворений, от «Сельского кладбища» до «Вечера»:
Стихотворение Батюшкова как бы включается в диалог с текстом Жуковского именно с этого момента. Мотив скорой ранней смерти – его «завязка»:
Дальнейшее развертывание темы и у Жуковского, и у Батюшкова идет во многом параллельно – при том, что трудно отделаться от впечатления травестийной трансформации мотивов одного текста в другом:
Ситуативная, лексическая и интонационная близость описаний подчеркивает разницу трактовок. У Жуковского «невидимый спутник» является вестником небесной надежды; у Батюшкова – вовсе не связанным с тайнами инобытия шаловливым «призраком» былого возлюбленного. Соответственно и сами «знамения» их незримого присутствия оказываются подчеркнуто разными:
Вместе с тем соотнесенность текста Батюшкова со стихотворением Жуковского подчеркнута не только близостью риторического развертывания темы (выражающейся, в частности, в игре на синтаксических повторах), но и прямыми мотивно-фразеологическими перекличками. У Жуковского посмертный «голос друга» воплощается в «веющем с луга душистом эфире» – у Батюшкова герой-невидимка будет «развевать» «легким уст прикосновеньем, как зефира дуновеньем, от каштановых волос тонкий запах свежих роз». У Жуковского «голос друга» звучит «стройным бряцаньем полуночной арфы» – у Батюшкова слышится «глас мой томный; арфы голосу подобный» [24] [Эти переклички тем интереснее, что образы «зефира» и «арфы» присутствуют и в тексте Парни. Однако нетрудно заметить, что в «Le Revenant» соответствующие места даны в чуждом тексту Батюшкова перефрастически «маньеристском» стиле. Ср.: «Souvent du zephir le plus doux//Je prendrai l'halenie insensible;//Tous mes soupiis seront pour vous.//Ils feront vaciller la plume//Sur vos cheveux noues sans arts.//Et dispeiseron au hasard//La faible odeur qui les parfume» и «Ma voix amouieuse et touchante//Pourra murmurer des iegrets://Et vous cioirez alors entendre//Cette harpe qui sous mes doigts//Sut vous iediie quelquefois//Ce que mon coeur savait m'appiendre» (Pamy E. CEuvres. Tome I. P. 25–26. 26–27). Батюшков как бы корректирует Парни Жуковским]. Но даже в самих этих параллелизмах ощутима принципиальная разнонаправленность: Батюшков последовательно переключает тему из экзистенциально-серьезного плана в план «несерьезно»-эротический. Особенно заметно это при сопоставлении ситуативно сходных концовок стихотворения: и там и тут «дух» оказывается у постели возлюбленной. Но внешнее ситуативное сходство оборачивается кардинальным расхождением: у Жуковского это «смертная постель», у Батюшкова – так сказать, ложе неги. «К Нине» завершается смертью героини – и эта смерть знаменует начало новой истинной жизни и «восторг свиданья» с прежним другом. «О Нина, о Нина, бессмертье наш жребий», – провозглашает заключительный стих Жуковского. «Привидение», наоборот, завершается пробуждением героини – и это пробуждение окончательно обнаруживает непроходимую грань между остающейся на земле красавицей и ее умершим возлюбленным. Более того: оказывается, вся картина посмертного свидания была всего лишь «мечтой», прихотливой игрой воображения. Заключительные стихи: «Час блаженнейший!.., но ах! Мертвые не воскресают», – звучат как своего рода грустно-ироническая реплика на концовку стихотворения Жуковского. Здесь следует сделать одно существенное уточнение. Означают ли эти строки, что Батюшков подвергал сомнению христианскую догматику и не верил в воскресение мертвых (а именно так склонны толковать эти стихи некоторые литературоведы)? Конечно, нет. Во-первых, в историческом времени мертвые действительно не воскресают. Во-вторых, тема «воскресения» в языке эротической поэзии Батюшкова приобретала особые смыслы: «умирание – воскресение» предстает в ней как метафора любовного акта. Поэтому мертвые «не воскресают» и в том еще смысле, что область земных блаженств для них навсегда закрыта, – о том же, какими будут «небесные блага», человеку знать не дано. Здесь вовсе не декларация «стихийного материализма» – здесь грусть по скоротечности и иллюзорности земной любви, как и земной жизни вообще. Эта грусть, преображающая самый эротизм, придает батюшковскому стихотворению совершенно особый колорит, резко выделяющий его на фоне «легкой поэзии» предшественников и современников. Отсюда и самая возможность соотносить этот текст не столько с анакреонтически-горацианскими опытами Капниста или Державина, сколько со «спиритуальной» лирикой Жуковского. Не случайно, конечно, «Привидение» в «Опыте в стихах и в прозе» оказалось помещено не в «Смеси», а в «Элегиях». Хорошо известна авторская интерпретация идеи «Привидения», высказанная в письме Гнедичу от середины февраля 1810 г.: «Посылаю тебе, мой друг, маленькую пьеску, которую взял у Парни, т.е. завоевал. Идея оригинальная... В ней какое-то особливое нечто меланхолическое, что-то мистическое a proposito». И – в заключение того же письма: «Прочитай Парни Самариной. Это в ее роде: любовь мистико-платоническая (Б, П). Между тем, батюшковское прочтение текста Парни, вообще говоря, весьма нетривиально и вовсе не вытекает с неизбежностью из содержания французского оригинала: как справедливо заметил Н. Н. Зубков, «у Парни нет ничего подобного: его стихотворение – всего лишь либертенская шутка над смертью, изящная и беззаботная» [25] [Зубков Н. Н. Опыты на пути к славе. – Зорин А., Немзер А., Зубков Н. Свой подвиг свершив... М.: Книга, 1987. С. 275]. Необычные акценты, расставленные Батюшковым, отражают очень важный момент в понимании им задач «легкой поэзия» – последняя должна была служить сублимации и спиритуализации эроса. Парни как бы изначально «петраркизируется». В. Э. Вацуро показал, что эта установка непосредственно отразилась на самом стилистическом строе стихотворения: «...Тема спиритуалистической любви все яснее проступает в гедонистической оболочке: она придает странную нематериальность миру чувственных вещей, описанному привычными средствами перифрастической эстетизирующей лирики. В лексике стихотворения преобладают слова семантического поля со значением легкости, неполноты, неуловимости... на этом фоне традиционные перифразы эротической поэзии словно теряют свой денотат, превращаясь в чистые символы... Здесь словно торжествуют стилистические принципы Жуковского» [26] [Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры. С. 107]. Это очень тонкое наблюдение. Но оно с особой остротой ставит вопрос: почему Батюшков все же попытался решить «тему Жуковского» хотя и в его стилистическом ключе, но в направлении во многом – если не в основном – от него отличном? Как кажется, на этот вопрос проливает некоторый свет запись, сделанная Батюшковым в записной книжке, подаренной ему Жуковским в мае 1810 г. В этой записи нашла свое отражение та концепция эроса, которая сложилась у Батюшкова в пору, близкую созданию «Привидения»: «Любовь может быть в голове, в сердце и в крови. Головная всех опаснее и всех холоднее. Это любовь мечтателей, стихотворцев и сумасшедших. Любовь сердечная реже других. Любовь в крови весьма обыкновенна: это любовь бюффона. Но истинная любовь должна быть и в голове, и в сердце, и в крови... Вот блаженство! – Вот ад!» (Б, II, 29). То толкование любви, которое было предложено в поэзии Жуковского 1808 г., должно было казаться Батюшкову – в свете этих представлений – чересчур «головным» и чересчур «холодным». Любовь, в которой усилием разума, пусть и опирающегося на веру, оказалась с легкостью побеждена «мука», казалась слишком малоправдоподобной. Не столько избыточная «спиритуальность», сколько избыточная «умозрительность» и избыточный рационализм должны были вызвать у Батюшкова сомнения и желание выступить с ответной поэтической репликой. «Привидение» и стало попыткой приблизиться к поэтическому воплощению темы «истинной любви», соединяющей «любовь в крови» (явный эротически-чувственный момент), «в сердце» (нежность и, по авторскому определению, «меланхолия») и «в голове» (дистанцирующая спиритуализация чувственно-эротических картин и грустно-ироническая улыбка в финале). Вместе с тем «Привидение» знаменует неприятие Батюшковым серьезного подхода к решению экзистенциально значимой темы – именно потому, что возможность серьезного разрешения этой темы в направлении, сколько-нибудь обнадеживающем человека. Батюшковым вряд ли предполагалась. Он сомневается в возможности победить страсти и вызванные ими «муки» – верою. Поэтому он предпочитает уйти в сторону и (с помощью по-особому осмысленного Парни) ответить полушутливой репликой на серьезную декларацию Жуковского. «Привидение» оказывается ключом едва ли не ко всем «анакреонтическим» и «горацианским» стихам Батюшкова 1810–1813 гг. – вплоть до «Моих Пенатов» и примыкающих к ним дружеских посланий. Во всех этих сочинениях предпринята попытка скрыться от трагического мира и от трагических вопросов в условно эстетизированный и «антикизированный» мир легкой поэзии, где для трагически-серьезных вопросов попросту нет места, вернее, где они получают нарочито облегченное разрешение. Но сама эта облегченность не скрывается, а всячески манифестируется с помощью декоративно-условного реквизита. В «Привидении» элементами такого реквизита оказываются античные боги – отсутствующие у Парни Парка и Зевес, от которых будто бы зависит судьба героя (и которые перейдут затем в дружеские послания). Об истинном Боге и истинной судьбе поэт не может – а потому и отказывается – судить. «Легкая поэзия» Батюшкова, таким образом, предстает репликой на поэзию Жуковского: она подразумевает поэзию Жуковского как необходимый фон для своего восприятия. Только на этом фоне она обретает подлинный смысл – как сублимация трагической темы [27] [Первым, кто с редкостной проницательностью ощутил трагическую подоплеку «легкой поэзии» Батюшкова, был Г. А. Гуковский. См.: Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. М.: Худ. лит., 1965. С. 164–170]. Вне поэзии Жуковского «легкая поэзия» Батюшкова совершенно теряет свое концептуально-мировоззрительное содержание и способна восприниматься (и воспринимается!) в уплощенно-примитивизированном ключе – как «поэзия земных радостей и наслаждений». 1814–1815 гг. – период глубокого кризиса в биографии Батюшкова и период высочайшего подъема в его творчестве. Тотальная переоценка ценностей привела к полной перестройке жанровой системы батюшковской поэзии. Почти все важнейшие сочинения Батюшкова этой поры – элегии. Поворотным моментом в создании новой системы оказалась элегия «На развалинах замка в Швеции» (1814). Она строится на контрасте между целостным миром исторической древности и трагически-пессимистическим сознанием современного человека, воскрешающего в своем воображении картины старины, чтобы на их основании предаваться резиньяциям о бренности человеческого бытия. На новом витке творческой биографии происходит возвращение поэта к тем принципам элегического построения, которое мы наблюдали уже в «Вечере». Совершенно прав В. Э. Вацуро, когда, отвергая расхожие представления об этом батюшковском сочинении как особой, «эпической» элегии (в которой эпическое описание будто бы является жанровой доминантой и «решительно превалирует» над лирической медитацией), подчеркивает исключительную роль в нем субъективного начала. Наблюдения над соотношением лирического субъекта и описываемого им мира закономерно приводят исследователя к выводу: «Он <Батюшков. – О.П.> пишет "о себе", подобно Жуковскому в "Сельском кладбище", совершенно так же вызывая из небытия картины мирной патриархальной жизни "праотцов села". Нет необходимости доказывать специально, что в своих художественных основах обе элегии схожи чрезвычайно, при всей разнице сюжета и материала, и что основные выводы, полученные на материале стихотворения Батюшкова, могут быть подтверждены анализом "Сельского кладбища"» [28] [Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры. С. 164]. Специально доказывать сходство «Сельского кладбища» и элегии Батюшкова действительно нет необходимости. Но на некоторых важных моментах этого сходства остановиться, пожалуй, стоит – для того чтобы понять, как осуществлялось зрелым Батюшковым осмысление элегического построения и элегической проблематики Жуковского. Элегия «На развалинах замка в Швеции», в отличие от раннего «Вечера», соотнесена со всеми основными уровнями текста «Сельского кладбища», включая композицию, общий элегический «сюжет», мотивы, образы, стилистику и элементы стиховой речи – вплоть до мельчайших. Самый первый стих («Уже светило дня на западе горит») не мог не вызвать в памяти читателей начального стиха «Сельского кладбища» («Уже бледнеет день, скрываясь за горою»). Демонстративно манифестированное сходство поддерживается параллелизмом интонационно-синтаксической и грамматической структуры. Оба стихотворения начинаются со слова «Уже», за которым следует в перечислительной конструкции серия фраз с предикатом настоящего времени. Это изначально создает, во-первых, эффект постепенного погружения в ночь («эффект Жуковского»!), а во-вторых – эффект соприсутствия: каждый из сменяющихся моментов времени переживается элегическим субъектом (и читателем) как настоящий. Далее и у Жуковского, и у Батюшкова вводится тема ночной тишины, усугубляющейся одиночными звуками. Этот прием подчеркивается употреблением анафорически повторенного «лишь»:
В случае Жуковского использование соответствующих грамматико-синтаксических структур может быть объяснено непосредственным влиянием Грея [29] [Ср. наблюдения исследователя: «...Тщательно сохранены пространственно-временная характеристика, греевские временные и уступительные с временным значениям наречия (now, save – «уже», «лишь»), равно как и анафорические повтор не дающие распадаться четверостишиям и создающие иллюзию постепенно] наступления сумерек» (Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры. С. 55)]; в случае Батюшкова его можно объяснить только сознательной ориентацией на текст Жуковского. Эта ориентация выступает и на других уровнях плана выражения, иногда с особенной наглядностью. Так, строка «Лишь изредка рыбарь к товарищам взывает» выглядит как вариация стиха Жуковского: «Лишь изредка, жужжа, вечерний жук мелькает». У Батюшкова не только повторяется начало соответствующей строки из «Сельского кладбища» («Лишь изредка...»), но и сохраняется ее мелодический рисунок: в обеих строках состав ударных гласных в основном совпадает. Более того: в мужских клаузулах сохранены те же опорные гласные, что и Жуковского, а женские рифмы вообще оказываются грамматически и фонетически тождественными. Как и в случае, который мы имели возможность наблюдать еще в «Вечере», Батюшков затем закрепляет впечатление диалога с Жуковским с помощью повторного реминисцирования, то есть, воспроизводя отсылку к Жуковскому дважды, с разными вариациями. Если строка из «Сельского кладбища»: «Повсюду тишина, повсюду мертвый сон», – сначала отозвалась в строчке второй строфы: «И все в глубоком сне поморие кругом», то в третьей строфе она отзовется в стихе: «Все тихо: мертвый сон в обители глухой». В первом случае знаками реминисцирования служат ключевое слово «сон», эпитет «глубокий», который звучит как вариант «мертвого», «все», выступающее семантическим эквивалентом наречия «повсюду»: фонетическим знаком реминисцирования оказывается мелодическая организация стиха, особенно его последней части, в которой – как и у Жуковского – два заключительных ударных икта инструментованы на «о». При повторном реминисцировании на первый план выдвигаются несколько иные компоненты: сохраняется «все» как эквивалент «повсюду», но вместе с тем появляется наречие «тихо» как вариация «тишины», наконец, «сон» получает тот же эпитет, что и в элегии Жуковского, – «мертвый». Вокалический рисунок стиха несколько меняется, но дублетная ударяемость на «о» сохранена – хотя позиционно несколько в ином месте, зато именно в тех словах, которые непосредственно отсылают к «Сельскому кладбищу». Густота (и «глубина») реминисценций из «Сельского кладбища» в начале стихотворения задает определенный эмоционально-семантический регистр для восприятия дальнейшего движения лирического сюжета: картины героической жизни древних скандинавов проецируются на картины обыденной жизни героев элегии Грея – Жуковского. И та и другая равно бессильны перед всесокрушающим временем: и та и другая сохраняются лишь в меланхолическом воспоминании «пришлеца». Концовка элегии вновь активизирует реминисцентный слой, отсылающий к Жуковскому, причем реминисцентность здесь приобретает особенно сложный и изощренный характер. С одной стороны, в заключительных стихах («Здесь тлеют праотцев останки драгоценны: // Почти их фоб святой!») трудно не усмотреть реминисценции знаменитых стихов Жуковского: «Здесь праотцы села, в гробах уединенных // Навеки затворясь, сном непробудным спят». Но вместе с тем здесь, видимо, содержится отсылка и к другому месту «Сельского кладбища» – к тому эпизоду, где вводится тема будущего посетителя кладбища и «селянина», рассказывающего страннику об умершем. И дело не ограничивается тематическим параллелизмом: соответствующие стихи воспроизводят фонетическую структуру рифмующих окончаний стихов Жуковского (только в иной компоновке):
Сохраняя целый ряд формальных признаков кладбищенской элегии, «На развалинах замка...» знаменовала переход к новым жанровым формам. Батюшков не ограничился только «расширением» материала, перенеся «кладбище» из идиллического времени уединенного села во время историческое. «Историческое» (т.е. «объективированное») содержание оказывалось таковым лишь на внешнем уровне. Обобщенно-мифологизированный характер изображенной «истории» позволил Батюшкову совершить еще один принципиально важный шаг: выстроить текст как бы на совмещении двух временных планов – «древнего» и «современного». Изображение подвигов скандинавских воинов проецировалось на совсем недавние события – антинаполеоновский поход русской армии. О таком проективном задании свидетельствует не только аллюзионная формула «галлов бич и страх», но и то обстоятельство, что Батюшков вскоре перенес ряд образов и фразеологических формул из «шведской» элегии в «Переход через Рейн» [30] [Ср. наблюдения Н. Н. Зубкова (Зубков Н. Опыты на пути к славе. С. 291) Е. А. Тоддеса (Тоддес Е. А. Перечитывая Батюшкова. – Батюшков К. Опыты в стихах. М.: Книга, 1987. С. 332)]:
Двупланный характер «исторического» материала позволяет и центральную фигуру «скандинавской» части элегии – юного воина – также строить на двупланном принципе: в ряде важных моментов персонаж оказывается соотнесен с самим Батюшковым. О такой соотнесенности свидетельствует, помимо прочего, появление в элегии некоторых биографических мотивов, которые можно найти в батюшковской поэзии военных и послевоенных лет. К посланию «К Дашкову», например, отсылает тема клятвы юноши («быть ужасом врагов, // Иль пасть, как предки пали, с славой») и образ хранящего заветы «славы» старого воина с «израненной рукой» (ср. с упомянутым в послании «израненным героем, кому известен к славе путь»). Морское возвращение на родину также связано с биографическим подтекстом, и, конечно, в элегии не случайно использована та же «фоносемантика», изображающая веяние ветра и движение корабля, что и в биографической «Тени друга» («Уж веет кроткий ветр вослед твоим судам» – и «Чуть веял ветерок, едва сверкали волны») Автобиографична и оставленная на родине невеста: характерно, что приемы изображения влюбленности («Едва на жениха взглянуть украдкой смеет, // Потупя ясный взор, краснеет и бледнеет») перейдут из «шведской» элегии в «Тавриду», связанную с безответным чувством Батюшкова к Анне Фурман («Твой друг не смеет и вздохнуть: // Потупя взор, стоит, дивится и немеет»). Идеальный мир героики и любви предстает опрокинутой в давно прошедшее проекцией недавних надежд и мечтаний самого Батюшкова: стихотворение пишется уже в ту пору, когда их несбыточность стала очевидной. «Все время в прах преобратило» – это итог не только древней истории, но и совсем свежего личного опыта. Историческое и биографическое как бы сливаются: индивидуальная биография осмысляется как реализация универсального исторического закона. Таким образом, грань между «объектом» и «субъектом» делалась зыбкой: самый объект оказывался не только пропущен сквозь призму субъективного восприятия, но и сопричастен внутренней жизни субъекта. Его «объективность» делалась во многих отношениях фиктивной. Жизнь внешняя неприметно превращалась в проекцию жизни внутренней. Так готовился переход не только к «унылой элегии» (которая очень многое взяла именно от этого проективного принципа), но и к позднейшим формам философской лирики. Элегия «На развалинах замка в Швеции» была отражением принципиально нового – остротрагического – взгляда на мир, который окрасит собою все позднее творчество Батюшкова. Особое биографическое преломление этот взгляд найдет в так называемом «Каменецком цикле» – серии элегий, написанных в основном в 1815 г. в Каменце - Подольском, в которых поэтически преломились обстоятельства его неразделенной любви к Анне Фурман. Уже замечено, что каменецкий цикл соотнесен с: поэзией Петрарки [31] [Зубков Н. Опыты на пути к славе. С. 295]: сама ситуация вынужденной любовной разлуки была воспринята поэтом сквозь призму петраркистского канона. Но в то же время цикл оказался соотнесен и с поэзией Жуковского – с ее темами, мотивами и образами, с ее стилевым строем и языком. Такая двойная соотнесенность была не случайной. Мы имели возможность видеть, что сближение Петрарки и Жуковского в художественном сознании Батюшкова происходило еще до начала 1810-х гг. В послевоенные годы восприятие Жуковского как «русского Петрарки» для Батюшкова, видимо, стало принципиально важным. В письме Жуковскому от 3 ноября 1814 г., вдохновляя друга на создание «важной» вещи, достойной его дарования, Батюшков писал: «У тебя воображение Мильтона, нежность Петрарки...» (Б, II, 310). Это, конечно, более чем привычный комплимент: сам выбор Петрарки в качестве объекта уподобления предполагает ощущение глубинного внутреннего родства двух поэтов. Знаменательно и указание в а качество, на основании которого осуществляется сближение, – нежность; это понятие, видимо, подразумевает и определенный эмоциональный модус поэзии, и особое свойство поэтического языка. Все эти качества были для Батюшкова особенно ценными: он старательно культивировал их в собственном творчестве. Как свидетельствует другое письмо Батюшкова к Жуковскому, от августа 1815 г., в каменецкую пору он специально обращается к стихам Жуковского: «...Я их перечитываю всегда с новым и живым удовольствием, даже и теперь, когда поэзия утратила для меня всю прелесть». И далее: «Может быть, придут счастливейшие времена, когда я буду писать, а в ожидании их читать твои прелестные стихи, читать и перечитывать, и твердить их наизусть» (Б, II, 347). Следы внимательного «перечитывания» обнаружились едва ли не во всех стихах Батюшкова этого периода. В элегии «Пробуждение» Батюшков словно бы возвращается в магический круг образов «Сельского кладбища»: самая тема противопоставления жизни в ее природно-вещной прелести и омертвелой души лирического персонажа оказывается осмыслена в том ключе, что был задан «Сельским кладбищем». Оппозиция: находящаяся в непрерывном движении жизнь – пребывающая в вечной неподвижности смерть, столь впечатляюще выстроенная в «Сельском кладбище», теперь модифицируется: атрибутами смерти наделена душа лирического героя, а не «объективированный» мир усопших поселян. Однако самый принцип противопоставления сохраняется, как сохраняется и способствующая воплощению этого принципа синтаксическая структура:
Нельзя не заметить, что самые проявления «живой жизни» в обоих произведениях сходны: это ценности не культуры, а природы. И если у Жуковского (как и у Грея) этот выбор был мотивирован самим элегическим объектом – бытием патриархального мира, связанным в первую очередь с природным началом и чуждым «культурным» рефлексиям, то у Батюшкова причины подобного выбора следует искать в состоянии лирического субъекта. В «культурных» ценностях он уже разочарован вполне, и мир природы представляется единственным, что в принципе могло бы примирить его с реальностью печального бытия. Самые образы природной реальности (по крайней мере, некоторые) несомненно восходят к Жуковскому: утренняя денница, звук рогов (возникающий в «Сельском кладбище» дважды и перешедший из него в другие сочинения Жуковсхого). Исключительно интересна метафорическая формула «сладость розовых лучей». Она не находит прямого соответствия у Жуковского, но можно предположить, что она построена по аналогии с формулой Жуковского «глас утра золотова» (замещение света звуком у Жуковского и вкусов – у Батюшкова, при сохранении в обоих случаях цветового эпитета). О проекции соответствующего образа на текст Жуковского, как кажется, свидетельствует и поразительное фонетическое сходство обеих формул: начальное сочетание согласного с сонорным л, за которым сразу же следует ударное а: последующие с, т, р, при этом т и р у обоих авторов соседствуют: и у Жуковского, и у Батюшкова очевидна также игра с з и в, как и с окружающими их гласными. Конечно, было бы натяжкой предполагать, что Батюшков сознательно подбирал здесь слова «по созвучиям»: скорее всего у него, с его исключительным чувством поэтического языка, игра с формулой Жуковского автоматически и, так сказать, на подсознательном уровне повлекла за собою и воспроизведение ее звуковой структуры. «Адресованность» батюшковского образа подкрепляется и тем, что вкус в поэтическом сознании и в поэтическом языке начала века мог ассоциативно сближаться со звуком («гласом») – через такие «поэтизмы», как сладостные звуки, сладкогласие [33] [Форма «сладкогласной» встречается в поэзии Батюшкова трижды; кроме того, используются формулы «звук сладкой», «глас сладостный» и т.п. См.: Shaw J. ThoThomas. Batiushkov: A Dictionary of the Rhymes & A Concordance to the Poetry. Madison: The University of Wisconsin Press, 1975. P. 299–300] и т.п. «Сельское кладбище» – хотя и чрезвычайно важный, однако не единственный фоновый текст «Пробуждения». Еще одно произведение Жуковского, которое могло оказаться важным для Батюшкова, – послание «Тургеневу. В ответ на его письмо» (1813). Это послание – одно из лучших и наиболее субъективно-исповедальных сочинений Жуковского – невольно свидетельствовало о неорганичности «религиозного оптимизма» поэта: в нем преобладали разрушающие гармонию «антроподицеи» ноты глубокого пессимизма и тотального недоверия к жизни. Это замечательное стихотворение увидело свет только в издании «Сочинений» Жуковского 1815 г., т. е. после появления «Пробуждения», однако есть все основания предполагать, что Батюшков был знаком с ним еще до публикации34 [34 Осенью 1814 г., по возвращении в Петербург из-за границы, Батюшков особенно тесно сошелся с А. И. Тургеневым и даже поселился у него на квартире. О Батюшкове часто заходит речь в тогдашних письмах Тургенева к Жуковскому: через Тургенева Батюшков шлет свои замечания на новые стихи Жуковского. Трудно поверить, что в этих обстоятельствах послание Жуковского (высоко ценившегося Тургеневым) было скрыто от Батюшкова]. В послании «Тургеневу» тема утрат, по существу, является тематической доминантой, переключающей текст из эпистолярного в элегический жанровый регистр. В отличие от «Сельского кладбища» (и совершенно подобно «Пробуждению») оно строится не на антитезе «природная жизнь» – «физическая смерть», а на противопоставлении неизменно прекрасной природы и печальной человеческой судьбы, с неизбежностью приводящем к выводу об иллюзорности счастья и лишающем самую природу очарования и прелести:
Заметим, что батюшковскому стихотворению здесь оказываются близки и синтаксические конструкции с перечислительными интонациями, и самая последовательность в репрезентации природных образов: свет, запах, движение, звук. Вместе с тем эксплицированной в послании Тургеневу антитезы «очаровывавшее прошлое» – «безнадежное настоящее» у Батюшкова нет. Ситуация относится только к настоящему времени: былая способность к «очарованию» не описывается – отчасти, думается, именно потому, что это уже сделал Жуковский. Самое умолчание в данном случае превращается в род отсылки. Через активизацию подтекста осуществляется универсализация индивидуального опыта, возводящегося в ранг «общего закона». Происходит нечто подобное тому, что мы уже наблюдали в элегии «На развалинах замка в Швеции». Но и этим текстовой диалог Батюшкова с Жуковским не исчерпывается: на тематический слой «Сельского кладбища» и послания «Тургеневу» накладывается еще один – из уже знакомого нам послания «К Нине». Наиболее явная, «эксплицированная» парафраза обнаруживается в стихе: «Ни запах, веющий с полей» (у Жуковского: «Иль веющим с луга душистым зефиром»). Памятуя об излюбленном Батюшковым приеме «разбросанного» реминисцирования одной строчки, мы можем заподозрить отсылку к Жуковскому и в предшествующем двойном упоминании «зефира». Цитатная экспликация одного стиха Жуковского предполагает актуализацию всего контекста. Согласно Жуковскому, именно погружение в природный мир с его звуками, цветами, запахами (в этом ряду – и «веющий зефир») должно исполнить душу «тихим, унылым мечтаньем», устремить ее в лучший мир, дать ей ощутить «присутствие Бога» и уверенность в будущей встрече. Через эти состояния и осуществляется соединение разлученных – судьбой или смертью; в этих состояниях незримо присутствует исполненная христианским «весельем» душа другого («...Всем тайным движеньям // Души твоей буду в веселье внимать»). Батюшков, воссоздавая сходную ситуацию, расставляет совершенно иные акценты: «Ничто души не веселит». Ничто и никто: герой не слышит в разлуке голоса возлюбленной. Поэтому гармонический мир природы не служит залогом грядущего соединения, а «запах, веющий с полей», не напоминает о присутствии Бога. Поэзия трагического одиночества достигает в «Пробуждении» высокой степени накала. Другое стихотворение каменецкого периода, созданное как бы в эстетической зоне поэзии Жуковского, – «Мой гений». Его построение не вполне обычно для элегии. В нем нет элегического «сюжета». В сущности, все его содержание – манифестация невозможности забыть образ возлюбленной и обобщенно-условный «портрет» этой возлюбленной, самая условность которого в значительной степени объясняется тем, что он создан не обычной памятью, посильно воспроизводящей эмпирическую реальность, а особой «памятью сердца», эту реальность преображающей и сублимирующей. Очевидно, что в основе стихотворения – петраркистская коллизия: видимо, непосредственно к Петрарке восходят некоторые детали текста, в частности элементы портрета [35] [См., в частности, 157 и 282 сонеты]. Однако фоном для этого стихотворения в русской поэзии служила известная «Песня» (1808) Жуковского («Мой друг, хранитель ангел мой...»). Интересно, что к Жуковскому восходит не «портрет», а как раз манифестационно-декларативная часть текста. Батюшков широко использует как само содержание ряда поэтических сентенций Жуковского, так и – не в меньшей степени – некоторые ключевые словесные формулы, перекомпоновывая их в новом порядке (по сравнению с «оригиналом»).
На фоне формульных перекличек заметнее становятся новые – по сравнению с Жуковским – эмоционально-смысловые акценты. Всего нагл нее, может быть, это проявляется в том семантическом ореоле, которым окружено ключевое для обоих текстов «петраркистское» понятие «сладость».
Как нетрудно заметить, для Жуковского самый дар любви – это уже и есть «сладость жизни»: само наличие объекта любви приравнивается к высшим проявлениям и высшим благам жизни как таковой («Тобою чувствую себя: В тебе природе удивляюсь»; «Любовь мне жизнь») и служит ее оправданием. Иначе у Батюшкова. «Сладость» отнесена им исключительно к сердечной памяти и противопоставлена реальности «рассудка». Особенно значимой в этом плане оказывается концовка стихотворения. На фоне очевидной интонационно-грамматической ориентированности на текст Жуковского особенно заметен семантический сдвиг.
Стихотворение Батюшкова, конечно, заканчивается сном не случайно. Такой финал позволяет создать чрезвычайно насыщенный и многоплановый образ. «Печальный сон» – это итоговая формула скорбного бытия: в этом смысле физический сон оказывается продолжением физического бодрствования: и память дневного рассудка, и ночное забытье равно окрашены «печалью». Поэтому и «образ милый» оказывается своего рода успокоительным сновидением, «услаждающим» печальное бытие, но не устраняющим его горечи. «Мой гений» продолжает ту полемику с Жуковским о любви, которая была начата в «Привидении». «Рассудок», с таким успехом устранявший драму любви в поэзии (не в жизни!) Жуковского и окрашивающий ее трансцендентальным оптимизмом, не находит пути в поэзию Батюшкова. Видимо, к концу 1815 г. положение меняется: Батюшков нашел (вернее, решил, что нашел) выход из трагических противоречий бытия. Кратковременный период трансцендентального оптимизма оказался связан с обретением религиозной веры. Религиозное обращение было пережито им с необычайной страстностью и с необычайным спиритуальным напряжением. То, что прежде в поэзии Жуковского было для него сомнительным – прежде всего упование на возможность победить верою земные страдания, – теперь кажется безусловно правильным. Но если для Жуковского само присутствие Бога и обетование грядущей жизни есть форма оправдания здешней жизни, то у Батюшкова вера в инобытие обернулась отказом от иллюзорных радостей земного бытия и напряженным порывом в иной мир. Необычайно насыщенным перекличками с Жуковским оказалось программное стихотворение «Надежда», которым открывался отдел «Элегий» в «Опытах»...»: Батюшков явно хотел, чтобы оно указывало, в каком ключе Должно воспринимать «путь» поэта, каким он теперь виделся ему самому. Уже давно замечено, что самое начало «Надежды» отсылает к «Певцу во стане русских воинов» Жуковского:
Н. Н. Зубков обратил внимание и на связь с другим текстом Жуковского – «Песней» [36] [Зубков Н. Опыты на пути к славе. С. 299], о которой мы уже имели возможность говорить в связи с «Моим гением». Можно заметить, что начальные строки стихотворений Батюшкова и Жуковского – «Мой дух! доверенность к Творцу!» и «Мой друг, хранитель ангел мой!» – перекликаются не только интонационно. «Дух» к «друг» соотнесены и позиционно-синтаксически (как объекты обращения), и – что особенно важно для стиховой речи – фонетически. Фонетическое сближение в общем разнородных понятий заставляет фиксировать внимание на семантике поэтических высказываний – и обнажает их глубинную смысловую разнонаправленность. В «Песне» Жуковского «спасение» и «счастье» приходят от «друга» -возлюбленной: она оказывается «агентом» Божьего промысла и Божественной любви. Мы уже видели, что в «Моем гении» Батюшков дал иную трактовку любви, обреченной остаться без взаимности, отказываясь видеть в ней Божий дар. Но в «Элегии» 1815 г. (полной версии «Воспоминаний») поэт, казалось бы, присоединяется к позиции Жуковского. Впервой части стихотворения идеи «Песни» варьируются без всяких полемических оговорок:
Однако в контексте «Элегии» эта солидаризация с Жуковским оказывается своеобразным риторическим приемом – формулой мнимой истины, заблуждением, опровергнутым самой судьбой:
Разочарование в любви влечет за собой разочарование в «отчизне», связывавшейся прежде с упованиями на обретение счастья. В этом отношении контекстно перекликается с «Элегией» тогда же (или почти тогда же) написанная «Судьба Одиссея»:
«Надежда» может быть вполне понята только в соотнесенности с «каменецкими» текстами, как исход из запечатленных в них коллизий. В ней происходит переключение рада центральных мотивов (и понятий) каменецких сочинений в иной трансцендентный план. Прежде всего, трансцендентный смысл приобретает самое понятие надежды: место «коварно изменившей» надежды на земное счастье занимает христианская надежда «лучшей жизни». Соответственно горечь земной любви и земного отечества заменяется упованием на иную – небесную любовь в ином – небесном отечестве. Эта трансформация смыслов приводит к переносу всех атрибутов «надежды» с объекта обманчивой земной любви исключительно на объект и источник любви небесной. Если в «Выздоровлении» Батюшков еще мог писать, обращаясь к идеальной возлюбленной: «Ты снова жизнь даешь: она твой дар благой», то теперь способность такого благодеяния отбирается у нее и полностью передается Богу: «Он! Он! Его все дар благой!» И если в «Элегии» с возлюбленной связывалось представление о добре и красоте и, как следствие, с поэзией («Твой образ я таил в душе своей залогом // Всего прекрасного... и благости Творца»), то теперь нужда в «образе милом» как медиаторе отпадает; абсолютные ценности ищутся в Абсолюте, а не в его отражениях: «Он нам источник чувств высоких, // Любви к изящному прямой // И мыслей чистых и глубоких». С Богом «дух» поэта желает остаться один на один, без посредников. Одним из самых совершенных стихотворений Батюшкова, написанных после кризиса 1815 г., является «К другу» [37] [Вопрос о датировке послания «К другу» чрезвычайно запутан. Л. Н. Майков предположил, что «стихотворение написано в 1815 г. или, может быть, в начале 1816 г.: это указывается совершенным совпадением выраженных в нем мнений с тем, что читается в пиесе «Надежда» и в статье «О морали, основанной на философии и религии»» (Батюшков К. Н. Сочинения. СПб, 1887. Т. 1. С. 403). Д. Д. Благой без какой-либо специальной аргументации предельно расширил границы возможного времени написания: «написано между 1813 – первыми месяцами 1817 гг.» (Батюшков К. Н. Сочинения. М.; Л.: Academia, 1934. С. 472). В. А. Кошелев уверенно утверждает: «Написано в 1815 г.» (Б, I, 457). В. Э. Вацуро дает в своей книге две взаимоисключающие датировки: «между 1813–1814» и 1815 г. (Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры. С. 100, 199). Как представляется, наиболее убедительной остается датировка, предложенная Л. Н. Майковым]. Именно это стихотворение потенциально подготавливало такую разновидность русской элегии, которая развилась уже во второй половине 1920-х гг. и наивысшие образцы которой оказались представлены в лирике Пушкина («Воспоминание») и Баратынского, – элегию философско-медитативную. Тематически «К другу» представляет собою как бы поэтическую вариацию Экклезиаста: экклезиастическая ситуация оказалась опрокинута в современность; собственный духовный опыт осмыслялся в категориях и параметрах библейской мудрости. Это было ново и смело. Но еще смелее было то, что библейский «прототекст» сплетался с новейшими литературными текстами, которые в сознании Батюшкова выступали знаками определенных культурных ориентиров, определенных ценностных комплексов, теперь подвергавшихся осмыслению и переосмыслению. Это сопряжение вечного и современного, символически-обобщенного и культурно-конкретного выстраивает в стихотворении совершенно исключительную смысловую перспективу. Первые строфы послания вовлекают в «интертекстуальный» диалог прежнее творчество самого Батюшкова. Самая стилистика и мотивы стихов, описывающих утраченный мир «спящих призраков», – не что иное, как прямая отсылка к стилистике и мотивам «Моих Пенатов»:
Намеченный когда-то «путь жизни» привел в тупик: тема обманчивости, «призрачности» былых горацианских идеалов обнажается посредством введения в стихотворение мотива «развалин».
Л. Я. Гинзбург, опираясь на общепринятый реальный комментарий к приведенным строкам, замечала: «Речь идет о московском доме П. Вяземского, сгоревшем в 1812 году. Дом, а вероятно, и крапива – вполне реальные. Но по законам условного стиля реальность поглощается здесь общим потоком поэтической символики» [38] [Гинзбург Л. Я. О лирике. Л.: Сов. писатель, 1975. С. 44]. Л. Я. Гинзбург, как мало кто понимавшая поэзию начала века, совершенно права в отношении «условного стиля». Самое же интересное состоит в том, что Батюшкову в данном случае даже и не требовалось вовлекать «реальность» в поле условных символов. Дело в том, что московский дом Вяземского, вопреки убеждению комментаторов, вообще не сгорал в огне московского пожара: в военные годы у Вяземского вообще не было своего дома в Москве [39] [Впервые на это обстоятельство, насколько нам известно, обратил внимание А. Л. Зорин. См.: Зорин А. «Ах, дайте мне коня!», или Батюшков-1987: Послеюбилейные заметки. – Литературное обозрение. 1987. № 12. С. 30. Друзей Вяземского какое-то время могла беспокоить судьба его дома в Остафьеве – к счастью, однако, не пострадавшего. Об этом беспокойстве свидетельствует письмо к Вяземскому Жуковского от 13 июня <1813 г.>, в котором самым причудливым образом переплелись Dichtung и Wahrheit: «Есть ли твой астафьевский дом не сожжен и не совсем разграблен, то ты верно найдешь в нем мои бумаги, отправленные тобою туда из Москвы: Список моих стихов, послания Батюшкова и пр. Прошу тебя все это мне поскорее доставить. Жаль очень, если эти chef d'oeuvr'ы употреблены на зажигание французских трубок и на подтирание французских ж<->п» (РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. № 1909. Л. 26 об.)]. «Исчезнувший дом» – это условное выражение ситуации разрушения, гибели, катастрофы старых иллюзий, то есть тех настроений, которые переживает Батюшков после войны. Развалины и пепелище ему нужны как емкий поэтический символ. Это символическое значение «московских пепелищ» подтверждается письмом Батюшкова к Жуковскому от середины декабря 1815 г.: «...Еду в Москву и пробуду там – долго ль, коротко ль, не знаю. Желаю с тобой увидеться на старых пепелищах, которые я люблю, как святыню». Соответственно и все реалии, окружающие картину разрушенного дома, также приобретают условно-символические черты. В первую очередь это относится к пресловутой «крапиве» (в которой и В. Э. Вацуро усмотрел «смелую номинацию, выпадающую из метонимического стиля» [40] [Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры. С. 200]). В действительности, конечно, эта крапива не «реальна», а столь же условно-литературна, как и самые развалины: это поэтический символ запустения и забвения. Вполне вероятно, что Батюшков со времен своей литературной юности помнил «Эпитафию самому себе» Павла Сумарокова [41] [Журнал приятного, любопытного и забавного чтения. 1802. № 2. С. 111. Этот номер почти наверняка был в руках у Батюшкова: вслед за «Эпитафией», на с. 111–115 была напечатана наделавшая много шума «Ода в громко-нежно-нелепо-новом вкусе» Панкратия (не Павла!) Сумарокова, за чьим творчеством, судя по всему, Батюшков следил очень внимательно. См. в связи с этим язвительное замечание Вяземского в письме Батюшкову от 1 мая 1812 г. – Литературный архив: Материалы по истории русской литературы и общественной мысли. СПб.: Наука, 1994. С. 132 (публ. В. А. Кошелева)], где образ крапивы был включен в круг традиционных кладбищенских мотивов:
Возможно, в поле зрения Батюшкова были и какие-то другие тексты с аналогичным поэтическим осмыслением «крапивы». Но за то, что он держал в памяти «Эпитафию...» П. Сумарокова, свидетельствует не только полная синтаксическая симметрия, но и почти полная лексическая тождественность сентенций («И место поросло крапивой» – «И прах порос крапивой»); кроме того, через строку у Батюшкова появляется и «прах». «Прах красноречивый» – тоже образ отчетливо литературного происхождения, представляющий собою прямую цитату из давнего послания И. И. Гнедича «К Батюшкову» (1807; опубл. в 1810):
«Прах красноречивый» – не просто присвоение удачной метафоры из стихотворения давнего друга: этот образ, проецируясь на контекст стихотворения Гнедича, как бы подключает ситуацию, обрисованную в элегии Батюшкова, к перспективе всемирной истории, подразумевающей гибель и разрушение непременным итогом всякого цветения. И вместе с тем у Батюшкова происходит характерная переакцентация мотива: если у Гнедича «прах красноречивый» – это атрибут «счастливого края», исполненного величавых воспоминаний, то у Батюшкова от «счастья» не осталось и следа: «прах красноречивый» – это теперь компонент личного опыта и личной судьбы, это не след «чужих» утрат, ставших историей, а олицетворение утрат собственных. Подчеркнуто литературный круг ассоциаций, который вызывался образом «исчезнувшего дома», указывал на то, что речь в стихотворении идет не о реальном доме князя Вяземского, а о «развалинах» того «домика», который Батюшков выстроил в своей поэзии. Это «развалины» философии «Моих Пенатов». Созерцание «развалин» (конечно, тоже условно-литературное) вызывает последующие поэтические ламентации. В этих ламентациях и появляются прямые реминисценции из Жуковского. Жуковский – даже в большей степени, чем «друг» – Вяземский, – оказывается тайным адресатом текста. На новом витке поэтической биографии Батюшкова как бы воскресает ситуация «Моих Пенатов» – сочинения, обращенного Батюшковым к Вяземскому, Жуковскому и самому себе. Только концепция нового произведения теперь оказывается принципиально иной. Первоосновы темы утрат были заложены уже в «Вечере» Жуковского, отголоски которого явственно слышатся в «К другу».
Помимо общности мотивов здесь обнаруживается и модель интонационно-синтаксической конструкции стихотворения Батюшкова («Но где минутный шум веселья и пиров... Где мудрость светская... Где дом твой...» и т.п.). Если «Вечер» задал абрис темы, то претворение ее в мотиве «исчезнувшего дома» возникает в другом стихотворении Жуковского, которое нам уже доводилось упоминать, – «А. И. Тургеневу. В ответ на его письмо». Сближает стихотворения Батюшкова и Жуковского самый их жанр – философской элегии, замаскированной под послание; и в том и в другом случае адресат – лишь повод для философских ламентаций и авторефлексий; внимание поэта сосредоточено не на объекте, а на субъекте (и если у Жуковского образ адресата все-таки присутствует как мотивировка для развертывания лирического сюжета, то у Батюшкова этот образ редуцирован предельно; перед нами скорее «знак» адресации). Тема исчезнувшего дома и связанного с домом «веселого круга» прямо подготавливает соответствующую тему у Батюшкова:
Образ разрушенного дома мотивирует у Батюшкова переход к теме утрат как неизбежного итога земного пути. Уже отмечалась связь этой темы и того образного комплекса, в котором она воплотилась, со стихотворениями Державина и И. И. Дмитриева [43] [Зубков Н. Опыты на пути к славе. С. 300 (на с. 300–301 вообще содержатся интересные наблюдения над использованием Батюшковым державинских мотивов); Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры. С. 201 (указан аналог стихам Батюшкова в «Элегии» (1798) Дмитриева: «Я счастье полагал во счастии родных – // И что же? – только их я обнимаю гробы!»)]. Список параллелей можно было бы пополнить: Батюшкову важно было подключить свой текст к максимально широкой традиции, очередной раз универсализировать биографическую коллизию. Однако главной моделью, к которой тяготели и с которой корреспондировали все прочие реминисценции, для Батюшкова все же был Жуковский. Именно у Жуковского самая последовательность в развитии тем (молодость – надежды – разрушенный дом – могилы) и самый набор выражающих эти темы словесных образов находят наиболее полное соответствие:
Заметим, что соответствующие параллели к строфе Батюшкова обнаруживаются и в других текстах Жуковского – в частности, в послании «К Филалету», служащем во многих отношениях как бы заготовкой к будущему посланию-элегии «Тургеневу» [44] [Элегические потенции послания «К Филалету» отметил Б. М. Эйхенбаум в «Мелодике русского лирического стиха». См.: Эйхенбаум Б. О поэзии. Л.: Сов. писатель, 1969. С. 370-371]. К этому стихотворению, возможно, восходит интонационно-синтаксическое решение завершающего стиха строфы («И что ж?.. их урны обнимаем»):
Как подтверждение провозглашенной Батюшковым истины о «минутном» странничестве» и неизбежности утрат вводится тема «Лилы». Строфы о «Лиле» композиционно отражают схему послания Жуковского, а именно то его место, которое вводит тему «ушедшего брата» (Андрея Тургенева). Нетрудно заметить, что характеристика «Лилы» в общем корреспондирует с портретом Андрея Тургенева у Жуковского: незаурядные нравственные качества, красноречие, «приятность» натуры, способность возвышать и скреплять дружеские узы [45] [Вместе с тем одним из важнейших источников образа Лилы послужила поэзия Петрарки (наиболее близкие параллели см. в сонетах 156, 157 и, особенно. 292). Вообще этот образ сугубо «собирательный», насквозь литературный и почти столь же условный, как и другие образы послания. Усматривать в Лиле изображение В. И. Кокошкиной (к чему склонны почти все комментаторы) по меньшей мере некорректно]. Самое описание внезапной смерти Лилы, построенное как сцепление абсолютно условных и вневещесгвенных «поэтизмов», отчасти адресующих к тексту Державина, в то же время оказывается как бы смонтировано из формул, описывающих смерть Андрея Тургенева.
Печальная история Лилы заканчивается темой «клеветы» и констатацией порочности земного мира, иллюзорности всех земных добродетелей (с прямой цитатой из Экклезиаста):
Помимо прочего, здесь явственно просматривается аллюзия на концовку послания Жуковского – аллюзия, «стягивающая» его мотивы в лаконичную формулу-констатацию:
Следующий за горестной констатацией вопрос: «Но где, скажи, мой друг, прямой сияет свет?» – отсылает к зачину стихотворения («Где мудрость светская сияющих умов?»), тем самым, отвергая «светскую» мудрость как заведомо ложную. Однако вопрос о «прямом свете» мотивируется и интертекстуально – формулой Жуковского «гнусный свет», которая как бы подразумевается в самом составе вопроса Батюшкова. Наречие «так», открывающее утверждение, за которым следует вопрос, создает интонацию диалога, присоединения к уже высказанному Жуковским мнению. В соотнесенности с экклезиастической формулой вопрос о «прямом свете» продуцирует псалмодическую тональность следующих строф [46] [Вопрос об источниках этих псалмодических строф весьма интересен и достаточно сложен. Еще Пушкин, как известно, отметил связь стихов о «пере» и «прахе» с Ломоносовым и Тассо. Сравнение ума, погибающего среди сомнений, с не знающим пристани «судном без руля» – одно из распространеннейших в мировой словесности. Показательно, что сравнение героя с гибнущим кораблем возникает буквально в самых первых русских элегиях – Тредьяковского и Сумарокова (см.: Гуковский Г. А. Русская поэзия XVIII века. Л.: Academia, 1927. С. 55). Однако в свете общей «петраркистской» позиции Батюшкова правдоподобно предположить, что мотив проецируется прежде всего на Петрарку, у которого уподобление смятенной души потерявшему управление кораблю – одно из ключевых (см. в особенности сонеты 132, 272 и 292)]. Выход из пучины сомнений и озарение светом спасительной истины, обретенной через Веру, ознаменованы новым возвращением к поэзии Жуковского. Мотивы Жуковского пронизывают всю заключительную строфу стихотворения:
Образ странника, возникающий в стихотворений раньше («минутны странники»), здесь получает свое религиозно-символическое разрешение. Этот образ сам по себе – «топос» религиозной риторики. Но на русской почве поэтическую значимость, характер поэтического символа он приобрел именно в поэзии Жуковского, что и учитывается Батюшковым. Ключевым он оказывается уже в «Путешественнике», где возникает и фразеологическое сочетание «риза странника»:
Еще один хорошо знакомый Батюшкову текст с религиозно-символическим осмыслением темы странничества, к тому же завершающийся (как и «К другу») мотивом ухода странника в лучший мир, «небесное отечество», – послание Жуковского «К Блудову»:
Наконец, самый образ нового света, озарившего путь странника в лучший мир («Ко гробу путь мой весь как солнцем озарен»), отсылает к совсем недавнему, опубликованному только в начале 1815 г. стихотворению «Теон и Эсхин»:
Как раз около 1814 года (когда и был написан «Теон и Эсхин») в сознании Жуковского происходит резкий мировоззренческий перелом, ознаменовавший принципиально новое – гораздо более личное и гораздо менее традиционалистски-формальное – отношение к религии. «Теодицея» (и «антитеодицея») поэзии зрелого Жуковского во многом опирается на результаты кризиса и нового обретения веры в 1814 г. По остроумному предположению А. С. Янушкевича, «Теон и Эсхин» был задуман как произведение, адресованное Батюшкову. Если исследователь прав, то Батюшков угадал эту адресованность, что подтверждается всем строем стихотворения «К другу». Но, признав часть провозглашенной Жуковским истины – об обетованной страдающему человеку «лучшей жизни», – он так и не смог на основании этой истины примириться со здешней жизнью и оправдать ее. Батюшков не пожелал восклицать вместе с Теоном: «Все небо нам дало, мой друг, с бытием: Все в жизни к великому средство». В известном смысле он так и остался «презирающим жизнь» Эсхином, а обретенная надежда оказалась лишь надеждой на скорое обретение жизни небесной. Поэтому за эмфатически-аффектированной концовкой «К другу» просвечивает не теодицея «Теона и Эсхика», а «манихейство» послания «Тургеневу»: «Нам счастья нет, зато и мы не вечны!» * * * Итак, Батюшков находился в орбите воздействия поэзии Жуковского на протяжении нескольких – важнейших – стадий своей короткой творческой биографии, причем это воздействие не сводилось к усвоению каких-то второстепенных деталей тематики и поэтики, но сказалось на всей поэтической системе Батюшкова, а через него отозвалось в последующей поэтической традиции. В первую очередь это относится к жанру элегии. Источник: Проскурин О. А. Батюшков и поэтическая школа Жуковского (опыт переосмысления проблемы) / О. А. Проскурин // Новые безделки : сб. ст. к 60-летию В. Э. Вацуро. – М., 1995–1996. – С. 77–116. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||