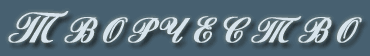|
Болезненно переживая недавние тогда события, Батюшков считал, что французская революция уничтожила самую возможность возводить жизненный идеал на основе политической активности. Он писал Н. И. Гнедичу в 1811 г.: «И вот передо мной лежит на столе третий том Esprit de l'histoire, par Ferrand [2] [Дух истории Феррана (франц.). Имеется в виду 4-х томный труд А. Феррана «Дух истории, или письма отца к сыну о политике и морали...». Paris, 1802], который доказывает, что люди режут друг друга затем, чтоб основывать государства, а государства сами собою разрушаются от времени, и люди опять должны себя резать и будут резать, и из народного правления всегда родится монархическое, и монархий нет вечных, и республики несчастнее монархий, и везде зло, а наука политики есть наука утешительная, поучительная, назидательная... и еще бог знает что такое! Я закрываю книгу. Пусть читают сии кровавые экстракты те, у которых нет ни сердца, ни души» [3] [К. Н. Батюшков. Сочинения под ред. Л. Н. Майкова, т. III. СПб., 1886, стр. 136. Далее всюду цитируется это издание].
В первой половине своей творческой жизни, до войны 1812 года, Батюшков выработал собственную «маленькую», по его выражению, философию. Поклонник Монтеня и Вольтера (последнего он односторонне понимал как преимущественно рассудительного мудреца-эпикурейца), Батюшков своеобразно соединил скептицизм с чувствительностью и гедонизмом. Парадоксальным образом именно жестокий исторический опыт породил жизненную и политическую философию Батюшкова – гуманное эпикурейство его юности, обожествление личного счастья. Гедонизм его имел, однако, эстетически возвышенный характер, был в целом лишен «либертенского» вольнодумства; наоборот, сочетаясь с «прекраснодушием», сближался с карамзинским сентиментализмом. Поклонник Карамзина и воспитанник его друга, М. Н. Муравьева, Батюшков считал, что истинное наслаждение жизнью возможно только для добродетельной души.
«Маленькая» философия Батюшкова, окруженная с самого начала разбушевавшейся стихией европейской истории, была пронизана тревожными нотами, которые проходят и через все его творчество. Новые исторические события, тяжелый опыт личных неудач повлияли на строй его мыслей. В результате событий 1812–1814 гг. его мировоззрение и творчество изменились [4] [Наиболее подробное изложение биографии Батюшкова см. в указ. книге Л. Н. Майкова].
Батюшков в 1813 г. добровольно вступил в действующую армию, был адъютантом генерала Н. Н. Раевского, участвовал в сражении под Лейпцигом и вместе с русскими войсками вступил в Париж. Однако события Отечественной войны он воспринял во многом иначе, чем большинство его современников. Несмотря на победоносный ход войны, в нем росли горечь и разочарование. Самый факт «образованного варварства» и разрушение прежней картины мира омрачали для него радость и гордость победы. В этом Батюшков был одинок – в русском обществе господствовало настроение общего подъема и радужных надежд. Тот самый 1812 год, который оживил общество и дал толчок движению декабристов, Батюшкова погрузил в мрачные раздумья.
«Москвы нет! Потери невозвратные! Гибель друзей, святыня, мирное убежище наук, все осквернено шайкою варваров! Вот плоды просвещения или, лучше сказать, разврата остроумнейшего народа, который гордился именами Генриха и Фенелона. Сколько зла! Когда будет ему конец? На чем основать надежды? Чем наслаждаться?» [5] [К. Н. Батюшков. Сочинения под ред. Л. Н. Майкова, т. III. СПб., 1886, стр. 205–206].
Жуковский пишет «Певца во стане русских воинов», с его светлым одушевлением, Батюшков – трагическое послание «К Дашкову» – реквием на гибель Москвы. Он разочаровывается в «разумности» и «гармоничности» человека. Историческая роль революционного просветительства рисуется ему уже гибельной: «Ужасные происшествия нашего времени, происшествия, случившиеся как нарочно перед моими глазами, зло, разлившееся по лицу земли во всех видах, на всех людей, так меня поразило, что я насилу могу собраться с мыслями и часто спрашиваю себя: где я? что я? <...> Ужасные поступки вандалов, или французов в Москве и в ее окрестностях, поступки беспримерные и в самой истории, вовсе расстроили мою маленькую философию и поссорили меня с человечеством...» [6] [К. Н. Батюшков. Сочинения под ред. Л. Н. Майкова, т. III. СПб., 1886, стр. 208–210].
В 1815 г. Батюшков пишет в статье «Нечто о морали, основанной на философии и религии»: «Мы видели зло, созданное надменными мудрецами, добра не видали».
Общественно-политическая позиция Батюшкова может быть охарактеризована как просветительский патриотизм. Для него еще актуальны петровские преобразования (европеизация России); он полон гордости достигнутыми успехами; отсюда – его восторженное отношение к Петру I и одобрительное – к русскому самодержавию. Совершенно очевидно, что Батюшков – сторонник просвещенной монархии. Молодого Никиту Муравьева шокировали «верноподданнические» высказывания Батюшкова и уже нисколько не умиляли успехи государства в градостроительстве и просвещении: «Через 20 лет не диво», – писал он по поводу восторгов Батюшкова «новым городом» и «новыми людьми» в «Прогулке в Академию художеств» [7] [Замечания декабриста Никиты Муравьева на полях I тома «Опытов» см. К. Н. Батюшков. Сочинения под ред. Л. Н. Майкова, т. II. СПб., 1886, стр. 443–445, 451, 526–528].
Батюшков принадлежал к преддекабристскому поколению и по возрасту, и по историческому опыту, и по пониманию задач современности. Когда слухи о существовании в России тайных обществ дошли до Батюшкова, они вызвали у него тревогу и даже панику, что явствует из скупых свидетельств современников. В катастрофическом обострении наследственной душевной болезни, выключившей Батюшкова из жизни в начале 20-х годов, некоторую роль, по-видимому, сыграла и его осведомленность о существовании тайных декабристских обществ. Сын его старшего друга и учителя, М. Н. Муравьева, Никита Муравьев, был одним из организаторов движения, и это усугубляло тревогу поэта: «Батюшков отчасти с ума сошел в Неаполе страхом либерализма, а о тебе думает он, яко сумасшедший, верно, не лучше» (из письма А. И. Тургенева П. А. Вяземскому) [8] [«Остафьевский архив князей Вяземских», т. II, СПб., 1899. стр. 295].
Это была не просто тревога за близких и друзей. Батюшков – противник революции. «Пора быть умными, то есть покойными» – такой формулой он выразил свое недовольство неаполитанской революцией, свидетелем которой оказался в 1820 г. [9] [См. в книге: «Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов», т. I. M., 1931, стр. 146]. Тогда же он, по-видимому, написал и стихи, направленные против неаполитанской революции (не сохранились).
Но по своим общественно-политическим воззрениям Батюшков был либералом, в том положительном смысле, который тогда имело это слово. Феодальная реакция, искоренение возбужденного революцией «вольного духа» заставляли его иногда и резко осуждать внутреннюю и внешнюю политику властей. Об этом сохранились интересные свидетельства современников. А. И. Тургенев сообщил П. А. Вяземскому, что Батюшков при встрече с ним «либеральничал»: «Мы читали новые стихи Пушкина, которые он критиковал; что касается палача и кнута – весьма пикантным образом» [10] [Речь идет о «Братьях-разбойниках». – «Остафьевский архив князей Вяземских», т. II, стр. 322]. Тургенев не счел возможным посвятить почтовое ведомство – в смысл этой критики, Батюшков должен был считаться с нарастанием оппозиционных настроений в близком ему кругу. И все же вместе с Карамзиным и Жуковским он видит только в гуманной и снисходительной «просвещенности» основу общественного благополучия.
Всего дороже для Батюшкова – культура и искусство; их состояние было для него мерилом всего. Батюшков заворожен искусством; в упомянутых замечаниях Никита Муравьев возразил на его фразу в «Речи о влиянии легкой поэзии на язык» («...искусство, как лучшее достояние человека»): «поэзия не есть лучшее достояние человека» [11] [К. Н. Батюшков. Сочинения под ред. Л. Н. Майкова, т. II. СПб., 1886, стр. 527]. Подлинное обожание, обоготворение искусства, поэзии отличало Батюшкова и от многих его сверстников-поэтов, например, от Вяземского, обладавшего сильным политическим темпераментом. Впрочем, Вяземский, метавший громы в тиранов (стихотворение «Негодование»), отказался от предложения войти в тайное общество декабристов.
Искусство понималось Батюшковым как святая святых образованности и гуманности. Его кумиры – итальянские поэты Тассо и Петрарка, Он считал, что, чем выше уровень общественной культуры страны, тем совершеннее ее искусство: «Италиянские критики <...> на каждый стих Петрарки написали целые страницы толкований <...> Только в тех землях, где умеют таким образом уважать отличные дарования, родятся великие авторы» [12] [Статья «Петрарка» (1815), Батюшков с большим уважением относился к европейской философии и, подобно Пушкину, сожалел, что у нас она была еще недостаточно развита (Пушкин писал об этом А. Бестужеву в конце мая – начале июня 1825 г.). Батюшков очень гордился тем, что сделал историко-литературное открытие, обнаружив в «Освобожденном Иерусалиме» Тассо многие выражения и стихи Петрарки]. Для русской поэзии Батюшков видел лишь один – общеевропейский – путь.
Как в своем понимании истории, так и в понимании задач литературы Батюшков – несомненный карамзинист.
В программной «Речи о влиянии легкой поэзии на язык» (1816) Батюшков совмещает европеизм с просветительским патриотизмом. Понятие просвещенности для него неотделимо от понятия «людскости», т. е. светскости в смысле европейской цивилизованности, urbanite [13] [См. в письме Н. И. Гнедичу от 19 сентября 1809 г.].
Батюшков настаивает на взаимодействии, обратной связи между языком литературы и разговорным языком общества; он сторонник карамзинистского принципа «писать как говорят и говорить как пишут». Несомненно, для него имело большое значение и практическое обогащение Карамзиным-писателем русского языка и фразеологии. Самый термин «легкая поэзия», который Батюшков употребляет вслед за М. Н. Муравьевым (от французского poesie fugitive – «скользящая поэзия») подразумевает у него не только малые лирические жанры, но – шире – разговорный (в отличие от книжно-торжественного) стиль поэзии. Вслед за Карамзиным и М. Н. Муравьевым оценивая чрезвычайно высоко «услуги языку» в одах и теоретических работах Ломоносова, Батюшков акцентирует роль его анакреонтики, а успехи русской поэзии после Ломоносова связывает с развитием «разговорного» слога. Не вступая в полемику прямо, он косвенно полемизирует в «Речи» с архаизирующими языковыми концепциями «шишковистов».
«Ясность, плавность, точность, поэзия и... и... и... как можно менее славянских слов» – таков был для Батюшкова критерий совершенства еще в 1809 г., когда, в сущности, произошло его окончательное поэтическое самоопределение. Он постоянно в своих письмах, изобилующих литературными высказываниями, противопоставляет понятия ясности и дикости выражения и смысла. Алогичная и в некоторых отношениях «барочная» образность поэтов, примыкавших к «Беседе любителей российского слова», для него совершенно неприемлема; это «бессмыслица» и «галиматья». Теоретически и практически Батюшков – сторонник гармонического равновесия образов. Он во многом и эстет; красота, даже красивость – для него важнейшие свойства поэзии.
В начале XIX в. в европейском искусстве классицизм уступал место романтизму [14] [Романтическое движение в русской поэзии изучено в работах: Г. А. Гуковский. Пушкин и русские романтики; Г. А. Гуковский. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., Гослитиздат, 1957; Л. Я. Гинзбург. О лирике, М.–Л., «Советский писатель», 1964]. В самом центре новой поэзии стояли задачи лирического выражения личности. «Важный род» эпопеи, трактующей проблематику большого масштаба, общечеловеческую по значению, не утратил еще для Батюшкова своего обаяния; этот жанр для него – живой, он способен им наслаждаться, – разумеется, в высоких образцах (статья «Ариост и Тасс»).
Но он уже убежден в том, что в поэзии необходимо изображение современного человека и современного мира.
«Почему лирический род процветал и должен погаснуть? Что всего свойственнее русским? Богатство и бедность языка. Может ли процветать язык без философии и почему может, но не долго?» – такие вопросы задавал себе Батюшков в 1817 г. в «Записной книжке».
«Лирический род» – это, по терминологии того времени (восходящей к античной традиции), ода. Итак, ода должна «погаснуть», потому что ее язык, ее выразительные средства отстали от мысли, от «философии» современного человека. Ода отстала от «людскости».
О лирической поэзии в новом значении этого слова – о «легкой поэзии» – он писал другое: «Сей род словесности беспрестанно напоминает об обществе; он образован из его явлений, странностей, предрассудков и должен быть ясным и верным его зеркалом» («Речь о влиянии легкой поэзии на язык»).
«Легкая поэзия» как жанр развилась в России в последней трети XVIII в. (застольные песни, романсы, дружеские послания, элегии), но представляла собой и в идейном и в художественном отношении периферию поэзии, так как воссоздаваемый в ней «малый», «внутренний» мир был согласно жанровому мышлению классицизма изолирован от «большого», «внешнего». В XVIII в. ода должна была решать серьезные проблемы человеческой жизни (такова и ода Державина). У Батюшкова этой цели начинает служить элегия.
Будучи многим обязан и Карамзину, и Муравьеву, и анакреонтике Державина, Капниста, Н. Львова, и западноевропейским элегикам [15] [Истоки батюшковской элегии, в частности – значение Э. Парни, изучены Н. П. Верховским в статье «Батюшков» («История русской литературы», т. 5. М.– Л, 1941)], Батюшков создал свой собственный тип лирики.
Поэзия Батюшкова, где автобиографизма, по сравнению с Державиным, формально меньше, по существу больше погружает нас в глубины индивидуального сознания. Предметом ее изображения является душевная жизнь человека – не как «малая» часть большого мира, а как мерило ценности этого мира.
В применении к Батюшкову еще невозможно говорить о романтическом индивидуализме, но у него уже появилось не свойственное прежней литературной эпохе представление об обязанности поэта избирать тот род жанра, который соответствует его духовному опыту. «Эпическому стихотворцу надобно все испытать... подобно Тассу, любить и страдать всем сердцем: подобно Камоэнсу, сражаться за отечество, обтекать все страны, вопрошать все народы...» («Нечто о поэте и поэзии», 1815). Там же: «Надобно, чтобы вся жизнь, все тайные помышления, все пристрастия клонились к одному предмету, и сей предмет должен быть – Искусство. Поэзия, осмелюсь сказать, требует всего человека... Живи, как пишешь, и пиши, как живешь».
Все же Батюшков – решительный противник «исповеди».
В его сознании еще жила не только жанровая иерархия, но и представление о том, что авторский образ в лирике в значительной мере определяется избранным жанром.
П. А. Вяземский писал: «О характере певца судить не можно по словам, которые он поет... Неужели Батюшков на деле то же, что в стихах? Сладострастие совсем не в нем» [16] [«Остафьевский архив князей Вяземских», т. II, стр. 382]. Имея в виду героиню эротических стихов Парни, он в шутку называл Батюшкова «певцом чужих Элеонор». Батюшков пишет Н. И. Гнедичу 21 июля 1821 г. о раздражившем его стихотворении П. А. Плетнева: «... мой прадед был не Анакреон, а бригадир при Петре Первом, человек нрава крутого и твердый духом. Я родился не на берегах Двины… Скажи бога ради, зачем не пишет он биографии Державина? Он перевел Анакреона – следственно, он прелюбодей; он славил вино, следственно – пьяница; он хвалил борцов и кулачные бои, ergo – буян; он написал оду «Бог», ergo – безбожник? Такой способ очень легок» [17] [К. Н. Батюшков. Сочинения под ред. Л. Н. Майкова, т. III. СПб., 1886, стр. 567. Речь идет о неудачном стихотворения П. А. Плетнева «Б...-в из Рима», напечатанном в «Сыне отечества», 1821, ч. 68, № 8, стр. 35–36]. В своей лирике Батюшков создает своеобразную, очень сложную систему художественных опосредствований и преображений, при помощи которых он строит свой авторский образ. Его проза, как увидим, строилась иначе. Известен выразительный автопортрет, набросанный поэтом в записной книжке. Его черты – противоречивость, дисгармоничность, склонность к рефлексии:
«Он перенес три войны и на биваках был здоров, в покое – умирал! В походе он никогда не унывал и всегда готов был жертвовать жизнию с чудесною беспечностию, которой сам удивлялся; в мире для него все тягостно, и малейшая обязанность, какого бы рода ни было, есть свинцовое бремя <...> Оба человека живут в одном теле. Как это? не знаю; знаю только, что у нашего чудака профиль дурного человека, а посмотришь в глаза, так найдешь доброго <...> Он жил в аде; он был на Олимпе <...> Он благословен, он проклят каким-то гением <...> Белый человек спасает черного слезами перед творцом, слезами живого раскаяния и добрыми поступками перед людьми. Дурной человек все портит и всему мешает: он надменнее сатаны, а белый не уступает в доброте ангелу-хранителю. Каким странным образом здесь два составляют одно, зло так тесно связано с добром и отличено столь резкими чертами? Откуда этот человек, или эти человеки, белый и черный, составляющие нашего знакомца?.. У белого совесть чувствительна, у другого – медный лоб. Белый обожает друзей и готов для них в огонь; черный не даст и ногтей обстричь для дружества, так он любит себя пламенно».
В своей лирике Батюшков еще не мог воссоздать этот чисто романтический характер, со столь отчетливой установкой на «демонизм», – характер, прямо ведущий к Онегину и Печорину. Кроме того, он и не хотел изобразить себя таким в своей поэзии.
Впервые в русской поэзии Батюшковым был создан «лирический герой». Стихийный автобиографизм Державина – явление совсем иного порядка.
О «лирическом герое» нам кажется уместным говорить не тогда, когда у поэта есть установка на спонтанную поэтическую «исповедь», а, наоборот, когда у него есть сознательно построенный образ автора, как своего рода персонаж. Лирический герой затушевывает авторскую индивидуальность. Лирическому герою близок образ «автора» в пушкинском «Евгении Онегине». Он строится, конструируется Пушкиным. Соотношение автора с самим Пушкиным сложно; их точки зрения соприкасаются, часто совпадают, но могут и не совпасть [18] [См. нашу статью «О роли образа автора в «Евгении Онегине». – «Труды Ленинградского библиотечного института», т. II. Л., 1957]. Лирический герой всегда – персонификация в образе «автора» тех или иных понятий поэта о жизни. Он сродни героям эпическим и драматическим, и, создавая его, поэт пользуется средствами этих искусств. Гете, имея в виду другой, «непосредственный» тип лирики, заметил, что каждое стихотворение есть «стихотворение на случай». Для «лирического героя» случай зачастую оказывается вымышленным. Например, любимый Батюшковым Тибулл переносил в свои стихи сюжеты из современных ему драматических жанров (цикл, обращенный к Делии).
Индивидуальность в стихах Батюшкова не чужда своего рода «многозначности», и здесь, может быть, одна из разгадок привлекательности его поэзии. В поэзии классицизма авторский образ в существенных чертах обусловливался жанром, в котором написано произведение; и автор-«эпикуреец», так же как «автор» одический и т. п., был абстракцией. Не он, носитель чувств радости, любви, дружества, был предметом изображения, а сами эти чувства в их абстрактном, «чистом» виде. В батюшковской же элегии жанровый по своей природе «автор» превращен в «лирического героя» – в предмет изображения, в характер, в индивидуальность. Эпикурейство, жанровое по своему происхождению, становится индивидуальной характеристикой лирического героя, олицетворившего ценности жизни.
Вяземский, как мы видели, подчеркивал, что лично Батюшков вовсе не любитель эротики. Эротическая тема отдана поэтом лирическому герою и имеет не автобиографическую (также и не жанровую), а эстетически более широкую функцию. Любовь для Батюшкова, как и красота, – «олицетворение» жизни, образ, символ земной жизни. Качества, которыми наделен батюшковский лирический герой, призваны символизировать полноту физического бытия. Это молодость, влюбленность, красота. Возлюбленная батюшковского героя всегда идеально прекрасна. Ее уста непременно алые, очи – голубые, «ланиты» подобны розам, локоны ниспадают золотой или каштановой волной; руки – лилейны и т. п. Она украшена душистыми цветами.
Батюшковское восхищение красотой глубже, чем эстетство и эротизм французской легкой поэзии XVIII в. Любовь батюшковского лирического героя (на что обратил внимание еще Белинский) овеяна ореолом духовности. В ней «много нежности, – писал Белинский, – а иногда много грусти и страдания» [19] [В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VII. М., изд-во АН СССР, 1955, стр. 227, Далее всюду цитируется это издание].
Батюшков высоко поднялся над уровнем эротической поэзии своих предшественников, прежде всего – своего прославленного учителя Эвариста Парни. Любовь у Батюшкова не выделена в некий обособленный мир наслаждений, а связана с обширным кругом высоких ценностей человеческой жизни. Герой эротических стихов Батюшкова не только пылкий любовник: он наделен также жаждой независимости, бескорыстием, гуманностью. Пафос батюшковской лирики уходит в почву более глубокую и духовно более насыщенную, чем галантная эротика XVIII в. Недаром Батюшков употребил в своих рассуждениях о судьбах современной ему поэзии слово «философия». В отличие от Баратынского, он, разумеется, не философский поэт. Но философский смысл его поэзии неизмеримо значительнее по сравнению с упрощающим мир гедонизмом и рационализмом. Это в особенности сказывается на его трактовке античной темы. Лирический герой Батюшкова зачастую дан как некий античный персонаж, воскуряющий фимиам пред алтарем домашних богов, преследующий вакханку на празднике Эригоны и т. п. Он обрисован с помощью атрибутов античности, окружен музами, нимфами, изображениями богов. Сама его психологическая характеристика содержит свойства античного мировоззрения, как его представлял себе Батюшков (гармоничность, непосредственность, эпикуреизм).
Античность была для Батюшкова идеалом гармонических взаимоотношений между человеком и миром. Вот почему так велико в его поэзии значение античной темы.
Тема античности – средоточие важнейшей проблематики классицизма – постепенно уступала свои позиции теме средневековья, выдвинутой романтиками. Но она еще притягивала к себе художественную мысль. «Неоклассицизм» Батюшкова сродни немецкому «неоклассицизму» конца XVIII в., с его глубоким пониманием античности как определенного исторического этапа в развитии человечества (Винкельман, «веймарский классицизм» Гете, Гёльдерлина). В начале XIX в. в России новое понимание античности пропагандировалось президентом Академии художеств А. Н. Олениным (Батюшков был частым гостем в его художественном «салоне»). Влияние оленинского кружка испытал и Гнедич.
Свойственная классицизму трактовка античности как нормы, образца для подражания преобразилась у Батюшкова в романтическую мечту, облекшуюся в плоть его лирического героя и того прекрасного мира, в котором он живет [20] [О романтической сущности батюшковской мечты, идеала пишет Г. А. Гуковский в книге «Пушкин» русские романтики»].
Батюшков сам ясно сознает нереальность мечты (ведь современному человеку уже не стать человеком «древним»), но он наделяет свою античность всеми красками жизни, лучшими ее свойствами – любовью, радостью, наслаждениями, молодостью, красотой. Особенность поэзии Батюшкова – в переплетении иллюзорного и действительного.
Жизнь батюшковского лирического героя дана как заведомая утопия, как «украшенный мир вымыслов» (выражение В. В. Виноградова). Отсюда – нарочитое использование мотивов, сюжетов, образов античной и новой европейской лирики. Стихи Батюшкова населены условно литературными образами. «Стройный стан» и «простой» наряд «пастушки», ее «златые кудри» («Мой гений», «Мои пенаты») – общее место античной и европейской лирики. Лирический герой попадает в ситуации, изображенные Горацием (бегство с поля боя); в месте его сельского уединения протекает домашний ключ – тот самый, который был всемирно известен по поэзии Горация, воспевшего свой источник Бандузию в сабинском поместье [21] [История этого мотива в европейской лирике рассмотрена И. Н. Голенищевым-Кутузовым в статье «Гораций в эпоху Возрождения». – В сб. «Проблемы сравнительной филологии». М.–Л., 1964, стр. 303–346].
Античные персонажи и атрибуты формируют образную систему лирики Батюшкова. Но наряду с античными богами и жертвоприношениями в стихотворении фигурируют «книги выписные», «камелек», имена друзей поэта – Жуковского и Вяземского. Поэт боится прогневить древних божков и в то же время читает Лафонтена и своих современников – Крылова и Карамзина. Здесь же «явное смешение», как выразился Пушкин, античной и христианской погребальной церемоний (заметки на полях «Опытов»). Но античные «куренья» – это не художественный недосмотр. Это поэтическая условность, способ выразить нужную поэту дистанцию между лирическим героем и автором. Б. В. Томашевский, писавший о связях Батюшкова с Н. И. Гнедичем и А. Н. Олениным, определил батюшковский стиль как стиль «ампир», как применение античных аксессуаров в современных, в частности сентименталистских, целях [22] [См. вступительную статью Б. В. Томашевского к «Стихотворениям» Батюшкова («Б-ка поэта». Малая серия). Л., «Советский писатель», 1948].
У Батюшкова есть ряд стихотворений, где герой в наибольшей мере удален от эмпирического авторского «я», где идеал дан как бы в чистом виде и изображение античности максимально приближено к «действительной» античности, как Батюшков ее понимал. Таковы «Вакханка», «Радость», «Гезиод и Омир соперники». Таковы же, в сущности, и позднейшие «Подражания древним» и стихи из «Антологии», не вошедшие в «Опыты». Во многих из них воплощен уже не идеал радости, а своего рода идеал мудрой и мужественной скорби, напоминающий античное понимание рока.
Здесь видна грань между античностью Батюшкова и «орнаментальным мифологизмом» литературного «рококо» французской поэзии XVIII в. (Батюшков хорошо знал Бернара, Дора, Грессё и др.) [23] [Об «орнаментальной» поэзии – см.: Б. В. Томашевский. Пушкин и Франция. Л., «Советский писатель», 1960]. В «орнаментальной» поэзии античная мифология и ее аксессуары использовались как аллегории, а сами эти аллегории служили украшением. Батюшков возмущался суждениями критика-архаиста М. Т. Каченовского: «... меня считает за галла (??? !!!..) Меня!» [24] [К. Н. Батюшков. Сочинения под ред. Л. Н. Майкова, т. III. СПб., 1886, стр. 111.]
Лучшие стихи Батюшкова далеки от украшательности. Так, в «Радости» «топанье» и «скаканье» передает наивно-простодушное, почти детское проявление чувства юноши эпохи «детства человечества». Счастливый, наивный юноша как бы действительно живет в мире, где Киприда мчится в облаках в запряженной птицами колеснице и осыпает цветами влюбленных. Это совсем не похоже на аллегорическую Киприду и ее «игры и смехи» (общее место в «орнаментальных» французских стихах). Мифы сплетаются с реальностью, будни состоят из пиров и плясок, а любовная погоня есть ритуальное действо («Вакханка»).
Отказ от аллегорий обусловил рельефность, живописность, «телесность» античных персонажей Батюшкова.
Сравним несколько батюшковских подражаний и переложений с подлинниками. В «Моих пенатах» использован мотив стихотворения Грессе «Обитель» («когда Парка увезет на той же ладье наши игры, наши сердца и наши наслаждения»).
|
Когда же парки тощи
Нить жизни допрядут
И нас в обитель нощи
Ко прадедам снесут –
|
вместо аллегорического отплытия вместе с парками «игр», «сердец» и «наслаждений» Батюшков вводит античный миф как элемент античного миросозерцания («нить жизни допрядут»). Миф этот живет в его стихах как зримая, действительная картина. Она создается и зрительный впечатлением (худоба сидящих за пряжей богинь судьбы), и лексической окраской («парки тощи»). В начальных стихах «Моих пенатов» (1–8) глубоко преобразовано стихотворение «К богам пенатам» Дюси: «Маленькие боги, с которыми я живу, товарищи моей бедности; вы, чье око взирает с благостью на мое кресло, мои таганы отшельника, мою постель бледно-темного цвета и мой шкаф...». Пенаты у Дюси – пассивные адресаты авторских обращений. У Батюшкова они обрели «личность» и даже «характер»; они диковаты (живут в норах и темных кельях) и в то же время домовиты (любят свои норы и т. д.). Нрав их определяется лексической окраской слов («отечески», «кельи», «пестуны»). Нора – признак их непритязательности; выражение «темны кельи», с усеченным прилагательным, имеет одновременно оттенок патриархальной архаичности и простоты.
Что касается Парни, то и у него образы античности выполняли аллегорически орнаментальную роль («Переодевания Венеры»). Переложение этого стихотворения Батюшковым справедливо считают превосходящим оригинал («Вакханка»). Пушкин заметил, что оно «лучше подлинника, живее».
Парни рисует любовный эпизод, где героями выступают галантный пастушок Миртис (персонаж пасторалей XVIII в.) и переодетая вакханкой Венера. Пылкость героини не требуется мотивировать, так как изображается богиня любви. У Парни полностью отсутствует атмосфера языческой страсти. Венера соблазняет понравившегося ей пастушка: «Самая юная, однако, остановилась, позвала Миртиса и устремилась вдруг под тень соседнего леса». Описание наряда и внешности богини чисто статуарное. Даем построчный перевод:
|
Лавр венчает ее голову,
Волосы развеваются.
Ткань, которая едва прикрывает ее,
Колеблемая дыханием ветра,
Небрежно наброшена на тело...
Хмель опоясывает ее и служит украшением
рук...
В руке ее легкий тирс.
|
У Батюшкова все пронизано экспрессией неистового бега, «вакхической» погони:
|
В чаще дикой и глухой
Нимфа юная отстала;
Я за ней – она бежала
Легче серны молодой.
Эвры волосы взвевали,
Перевитые плющом;
Нагло ризы поднимали
И свивали их клубком…
|
Экстатическое состояние влюбленных, языческое мироощущение создано Батюшковым.
|
Стройный стан, кругом обвитый
Хмеля желтого венцом,
И пылающи ланиты
Розы ярким багрецом,
И уста, в которых тает
Пурпуровый виноград, –
Все в неистовой прельщает!
В сердце льет огонь и яд!
|
Этому у Парни соответствует только: «Ее уста, смеющиеся и свежие, предлагают устам пастуха красочный (colore) плод винограда».
Парни перечисляет «прелести» Венеры в духе фривольной поэзии XVIII века: «Ее небрежность, ее нагота, ее томные глаза и ее улыбка обещали любовные наслаждения и исступление сладострастия». Батюшков добавляет отсутствующее у Парни: «Жрицы Вакховы текли». «Жрицы Вакховы промчались», а также сам мотив погони («Я за ней – она бежала») и победы юноши. У Парни в конце стихотворения девушки вдалеке «цимбалами утомляли эхо гор». Батюшков не взял эту перифразу, как и концовку Парни – фривольное описание танца девушек. Его вакханки – жрицы культа, и они бегут мимо влюбленных с ритуальным «воплем».
Нет сомнения, что Батюшков сознательно стремился к созданию поэтических структур, воплощающих его понимание античности. Недаром он писал: «Большая часть людей принимает за поэзию рифмы, а не чувства, слова, а не образы» [25] [К. Н. Батюшков. Сочинения под ред. Л. Н. Майкова, т. III. СПб., 1886, стр. 356. О переводах Батюшкова см.: Г. А. Гуковский. Пушкин и русские романтики; В. Н. Топоров. «Источник» Батюшкова в связи с «Le torrent» Парни. «Труды по знаковым системам», 4. Тарту, 1969; Н: В. Фридман. Поэзия Батюшкова. М., «Наука», 1971, стр. 123–140; Р. М. Горохова. Из истории восприятия Ариосто в России. В кн.: «Эпоха романтизма». Л., «Наука», 1975].
Батюшков, как мы уже отметили, сумел воплотить одновременно и действительность и иллюзорность создаваемого им прекрасного мира. С большой осторожностью следует поэтому говорить о «предметности», «конкретности» в стихах этого рода. Образы Батюшкова иногда таят незаметное на первый взгляд отрицание реальности их предметно-чувственного плана:
|
Скалы чувствительны к свирели;
Верблюд прислушивать умеет песнь любви,
Стеня под бременем; румянее крови –
Ты видишь – розы покраснели
В долине Йемена от песней соловья...
А ты, красавица... Не постигаю я.
(«Подражания древним»)
|
«Верблюд», стенящий «под бременем»... Казалось бы, есть все основания отметить здесь «конкретность», «реальность» и т. п. Однако в этих стихах скалы, верблюд и розы обозначают совсем не непосредственный мир представлений и быта «действующих лиц» этой сцены, а три прославленных мотива мифологии и литературы: греческий миф о певце Орфее, игрой на свирели двигавшем скалы; традиционный образ верблюда из древних арабских касыд [26] [Касыды были не только любовными песнями]; наконец, образы соловья и розы в средневековой лирике Востока. Сцена любовного объяснения, ее действующие лица, ее яркая экзотически патриархальная обстановка оказываются «мнимыми»... Стихи Батюшкова замечательны этими переходами от иллюзорного к действительному.
У Батюшкова лирический герой зачастую оказывается подлинным действующим лицом, характер которого выявляется в ходе сюжета и фабулы. Между тем фабула специфична не для лирики, а для других родов словесного искусства – эпоса и драмы. Эпический элемент, как и использование средств драматического искусства, свойствен элегии Батюшкова.
Поэзия Батюшкова «театральна» (эта черта в принципе восходит к особенностям поэзии классицизма). Таков эпизод с переодеванием Лилеты в стихотворении «Мои пенаты»: Лилета входит в одежде воина, затем сбрасывает ее и предстает перед героем и «зрителями» в наряде пастушки. Природа этого «действия» сценична, как и эпизод с воином (воин, в свою очередь, должен «постучаться, войти, обсушиться» и завести песню о своих походах). Часто у Батюшкова стихотворение строится как обращение героя к присутствующим тут же лицам («Радость», «Привидение», «Ложный страх», «Счастливец» и многие другие). Герой как бы комментирует сцену, происходящую перед его взором.
Внутренние переживания у Батюшкова обычно даны посредством изображения их внешних признаков: голоса, движения руки («Сосуды полные в десницах их дрожали», «твоя рука в моей то млела, то пылала» и т. п.). Эти черты стиля отметил В. В. Виноградов: «Чувство, сложная ситуация изображаются у Батюшкова... косвенно, через характерный, иногда поэтически-бытовой эпизод. Изображается то, что находится к основной теме в побочном, завуалированном отношении» [27] [В. В. Виноградов. Стиль Пушкина, стр. 181 и след.]. Выразительность внешних признаков чувства дала основание называть поэзию Батюшкова пластически скульптурной. Однако это не пластичность «неподвижных» поз живописи и скульптуры, а пластичность движений: «Там девы юные, сплетаясь в хоровод...» («Элегия из Тибулла»); «Под плясовой напев вы резвитесь в лугах» («Надпись на гробе пастушки»); наконец, еще отчетливее в «Радости» – «Толпами сбирайтеся / Руками сплетайтеся» и т. д. Сюжетно и ритмически воспроизводится хороводная пляска. Танец, вернее, «плясовой напев» – одна из моделей батюшковского стиха. И в саму его мечту о прекрасном мире гармонии и счастья входило представление об античном ритуальном танце, как вечном хороводе «муз и граций», юношей и «стыдливых дев». Батюшковские ритмы далеки от напевности лирической песни (важное отличие от Жуковского), но они музыкальны по-иному. Мелодически и ритмически некоторые стихи Батюшкова действительно приближены к хороводной пляске.
Лирический герой Батюшкова – не одинокий романтический «певец», как у Жуковского: он скорее напоминает «корифея» античного хора.
С годами мысль об иллюзорности «благ земных» выражается в поэзии Батюшкова все сильнее. Поэт и прежде не оставался чужд «унылой» элегии сентименталистского типа («Элегия» – «Как счастье медленно приходит» и т. п.), однако не она определяла тональность творчества раннего периода. В дальнейшем мотивы разочарования приобретают у Батюшкова все большее значение и глубину. Л. Н. Майков и Н. П. Верховский правы, считая, что батюшковская скорбь сильнее «сладостной меланхолии» Жуковского и что именно Батюшковым намечен первый в русской литературе образ разочарованного [28] [См. Н. П. Верховский, глава «Батюшков» в кн.: «История русской литературы», т. V. М.–Л., Изд-во АН СССР. 1941].
В творчестве Батюшкова возникает монументальная историческая «элегия разочарования» («На развалинах замка в Швеции», 1814), появляется скандинавская, «северная» тема с ее сумрачным романтическим колоритом, созвучным тревожности мироощущения поэта [29] [См. Д. М. Шарыпкин. Скандинавская тема в русской романтической литературе. – В кн.: «Ранние романтические веяния». Л., 1972].
Даже тема Италии, наследницы античности, родины «красоты», порождает элегию «Умирающий Тасс» (1817), где Батюшков создал трагический образ стихотворца, одного из своих кумиров – Торквато Тассо.
Батюшков увлекается «Песнями Оссиана» Макферсона. Оссиановские и скандинавские темы овеяны скорбным ореолом грусти об исчезнувших временах и героях. Эта грусть есть даже в патриотической элегии «Переход через Рейн, 1814», по-державински героичной и живописной. Философский смысл скандинавской темы близок поздним стихам Батюшкова о невозвратимости античного мира («Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы...», 1819).
Еще один тип батюшковской элегии – интимная элегия разочарования. Она вела к Пушкину, к психологической лирике.
Среди произведений Батюшкова выделяется несколько написанных в разное время интимных элегий, где личное чувство поэта выражено более непосредственно. Это – «Воспоминание» и «Выздоровление» (оба между 1807–1809 гг.); «Вечер» (1810); «Тень друга» (1814); «Воспоминания» («Я чувствую, мой дар в поэзии погас...», 1815); «Разлука» («Напрасно покидал страну моих отцов...»); «Пробуждение» (1815). Чувство горести обусловлено несчастливой любовью, потерей дружбы, личным душевным опытом. Батюшков достигает здесь не только эмоциональной напряженности, но и подлинного психологизма.
Лиризм наиболее интимных элегий Батюшкова – очень мягкий, сдержанный, чуждый какой бы то ни было аффектации, не только патетической, но и «чувствительной». Лирическое самораскрытие осуществляется не столько погружением в себя, сколько изображением внешнего мира, пробуждающего чувства поэта. Так, в «Выздоровлении» и особенно в «Моем гении» композиционным центром является образ любимой женщины, к которой обращен восторг поэта. В «Пробуждении» интенсивность любовной тоски дана как бесчувственность к красоте природы, ставшей главным предметом изображения.
Разлад между бесконечно привлекательным миром и душой, которая в тоске своей чужда наслаждению, впервые в русской поэзии положен в основу самой композиции. Сходным образом Баратынский, наследник Батюшкова, построит впоследствии свою «Осень».
Поэзия Батюшкова очень сложна, многослойна и полисемантична, насыщена книжными, историко-культурными и т. п. ассоциациями. Так, в «Последней весне» Батюшкова предвиденье собственной гибели, горечь утрат воплощены в смерти традиционного элегического юноши; его возлюбленная названа Делией. Верная Делия неизменно присутствует в батюшковских переводах из Тибулла. Ее имя, прославленное поэтом, само по себе некий символ. Или другой пример. «Яркий голос Филомелы» – пишет Батюшков в «Последней весне». Пушкин воспользуется впоследствии находкой Батюшкова, но изменит на «голос яркий соловья» («Не дай мне бог сойти с ума...»).
Ни Филомелы, ни Делии в стихотворении французского поэта Мильвуа («Последняя весна»– переложение его стихотворения «Падение листьев») [30] [У Мильвуа герой умирает осенью, вместе с природой. Это более меланхолично, но менее трагично: у Батюшкова расцвет весны и «яркий голос Филомелы» контрастируют со смертью] нет.
Тяготение Батюшкова к широким обобщающим образам-символам выразилось в приглушении им прямого, конкретного значения слов. Роза у него – не столько цветок, сколько символ красоты; чаша – не столько пиршественный сосуд, сколько символ веселья; урна – не столько реальная урна, сколько символ утрат. У Батюшкова есть стихи, где эти же «предметы» являются простыми иносказаниями. В стихах «На смерть супруги Ф. Ф. К<окошки>на» тисы, кипарисы и урна – условные знаки печали и смерти, так же как плач Гимена – знак супружеской скорби. Это аллегорический стиль, свойственный европейской поэзии XVIII в. Но не этот стиль у Батюшкова наиболее интересен. Эстетически самая важная тенденция в другом. То же слово «урна» в стихотворении «К другу» не только заменяет слово «могила», но и становится трагическим символом. В строке «Где твой Фалерн и розы наши», конечно, розы не «настоящие» розы и фалерн – не «настоящее» вино. В той же тематической традиции было у Державина «И алеатико с шампанским – И пиво русское с британским...» («К первому соседу»). Но батюшковский «фалерн» усиливает скорбность стихотворения, внося печаль о древней культуре, которая «исчезла» так же, как исчезает отдельная человеческая жизнь; о поэзии античности с ее изящным эпикурейством.
Различие символов и аллегорий помогает понять природу художественного образа, предполагающего непременно синтез конкретно-чувственного представления и его смысловой интерпретации. Аллегория потому художественно более элементарна, что в ней нет этой синтетичности, ее вещественный план совсем отключен (как и в некоторых батюшковских перифразах).
Между тем в уже цитированных выше стихах «Скалы чувствительны к свирели...» действенность предметного плана так велика, что можно совсем не догадываться о скрытом в них сюжете «соловей – роза» и даже об Орфее. Но можно и нужно вообразить, как краснеют розы и как «верблюд прислушивать умеет песнь любви». Молодой Пушкин (в особенности, как известно, в лицейской поэзии) довел до высокой степени совершенства культуру батюшковской перифразы. Постепенно он осваивал все более сложный опыт батюшковских художественных образов [31] [В книге В. В. Виноградова «Стиль Пушкина» подробно освещены связи пушкинской поэзии с Батюшковым]. Особенность стиля Батюшкова – употребление повторяющихся слов и словосочетаний, своеобразных поэтических клише, переходящих из одного стихотворения в другое, а от Батюшкова – к элегическим поэтам пушкинской поры и к самому Пушкину. Однако Батюшков не только воспользовался формулами, выработанными французской поэзией XVIII в., но и создал их сам («пламень любви», «чаша радости», «упоенье сердца», «жар (хлад) сердца», «пить дыханье», «томный взор» и т. п.) [32] [М. Гершензон. Пушкин и Батюшков. – «Атеней». Историко-литературный временник», кн. 1–2. Л.–М., 1924].
В. В. Виноградов отметил у поэта «несколько сфер образов», особенно углубленно разработанных [33] [См. В. В. Виноградов. Стиль Пушкина, стр. 181]. Г. А. Гуковский в «общих местах» батюшковской поэзии тонко усмотрел наличие эмоциональных ореолов34 [14 См. Г. А. Гуковский. Пушкин и русские романтики, стр. 99]. В этом смысл сублимирующего, возвышающего принципа в эротических стихах Батюшкова (давно замечено, что он последовательно смягчал эротические «вольности» в своих переложениях и переводах [35-36] [См. Л. Н. Майков. Батюшков, его жизнь и сочинения. СПб., 1896, стр. 74; Н. П. Верховский. Батюшков.– В кн.: «История русской литературы», т. V, стр. 399; Б. В. Томашевский. Пушкин и Франция, стр. 78].
И у Батюшкова и у Пушкина стилистическое опоэтизирование выражало стремление создать гармонический образ человека и мира. У Пушкина оно имело более широкий, чем у Батюшкова, размах, и этим обусловливалась его языковая широта. Батюшков (в этом он подобен Жуковскому) более однотонен в своей поэтичности. Здесь выразилась романтическая сторона творчества Батюшкова, стремление к единству и эмоциональной цельности мироощущения.
Стихи Батюшкова уникальны в русской поэзии по богатству чисто языковой – фонетической и синтаксической – выразительности. Уже современники отмечали «сладкогласие», «благозвучие», «гармонию» батюшковских стихов. Сводить их фонетический строй к «сладкогласию», конечно, нельзя. Но нельзя отрицать и того, что сам Батюшков придавал большое значение красоте поэтического языка, – это соответствовало его пониманию искусства: «Надобно, чтобы в душе моей никогда не погасла прекрасная страсть к прекрасному, которое столь привлекательно в искусствах и в словесности...» («Чужое – мое сокровище»).
Красота языка в понимании Батюшкова – не просто «форма», а неотъемлемая часть содержания. Поэт умело создавал языковой «образ» красоты.
Один из многочисленных примеров – гармоническое сочетание звуков, на всем протяжении текста группирующихся вокруг звука «л» в стихотворениях «Привидение» («...Если лилия листами... прильнет... лучами.., блеснет... пламень... ланитам...»), «Последняя весна» («В полях блистает май веселый... зажурчал... Филомелы... уныл...») и т. д.
В. В. Виноградов обстоятельно исследовал разнообразные синтаксические конструкции в стихах Батюшкова, глубоко усвоенные младшими современниками и наследниками, в особенности Пушкиным. «Экспрессивно смысловые разрывы» и «скачки в лирической композиции» (в «Тени друга», «Воспоминании», «Выздоровлении» и др.) усиливали драматизм стиля [37] [См. В. В. Виноградов. Стиль Пушкина, стр. 306–317].
Языковой образ у Батюшкова создавался не только фонетическими и синтаксическими средствами. Использование лексической окраски слов – одно из главных новаторских свойств поэзии Батюшкова. В лирике использование лексической окраски дает глубокие смысловые эффекты. Исторически сложилось так, что в русской поэзии (это было связано с трудностями формирования в XVIII в. общенационального литературного языка) выработалась обостренная чувствительность к лексической окраске. Батюшков первый пользуется ею в полной мере. Вернемся еще раз к батюшковской «Вакханке», где с интересующей нас стороны наблюдается самое, может быть, разительное расхождение из всех расхождений Батюшкова с Парни:
|
Все на праздник Эригоны
Жрицы Вакховы текли;
Ветры с шумом разнесли
Громкий вой их, плеск и стоны.
|
«Текли» вместо «бежали», или «мчались», или «шли» (именно «бежали» – couraient у Парни). Это слово, много раз осмеянное как тяжеловесный, книжный одический оборот, Батюшков смело применил в описании своих юных вакханок. Возникает атмосфера архаической торжественности ритуала. Жрицы «текут» при этом с «воем». Слово «вой» здесь также одического происхождения; оно допускалось в оду благодаря своей батальной и т. п. экспрессивности. Это относится и к слову «нагло» («нагло ризы поднимали»). Оно включает в себя значение «внезапно» (ср. старинное выражение «наглая смерть»). Лишь как дополнительное сквозит значение более бытовое (ср. современное «наглость»). Блестящую игру словом отметил Пушкин, сказавший об этом стихе: «смело и счастливо» (замечания на полях «Опытов»).
Четыре церковнославянизма в описании античных вакханок! Этим достигается не только большая возвышенность, но и подчеркнутая литературность стиля. И благодаря стилистическому оттенку книжности вакханка предстает в стихотворении не только пылкой «девой» и даже не только жрицей культа. Ее изображение, столь приближенное к нам и «зримое», в то же время удалено от нас в особый мир искусства. Этот достигаемый исключительно лексической окраской смысл образа также полностью отсутствует у Парни. Никогда до Батюшкова лексическая окраска не использовалась столь сознательно и не играла столь решающей роли. После Батюшкова – и, прежде всего, у Пушкина – она станет в русской поэзии одним из главных стилистических факторов.
Проза Батюшкова до настоящего времени изучена меньше, чем его стихи [38] [Наиболее подробно, хотя, к сожалению, очень выборочно, она рассмотрена в книге Н. В. Фридмана «Проза Батюшкова». М., «Наука», 1965]. Не конкурируя, разумеется, со стихами, она очень интересна по тематике и стилю, выразительно представляет круг интересов, моральных, эстетических, политических, характерных для времени Батюшкова.
Вместе со своим веком Батюшков ставил прозу, как род словесного искусства, ниже поэзии. Так интерпретировался самый тот факт, что проза менее «украшена», менее подчинена «воображению» [39] [См. в письме к Жуковскому от августа 1815 г.], более непосредственно, чем поэзия, связана с эмпирической жизнью. Батюшков считал необходимым для русской литературы развитие прозы, но искусством par exellence была, с его точки зрения, поэзия. Показательны в одном из его суждений эпитеты: «Прекрасный стих и страница живой, красноречивой прозы суть сокровища истинные («Нечто о поэте и поэзии»).
Так же, как отношение к прозе, тесно связаны со своим временем, и в особенности с русской традицией, ее формы в творчестве Батюшкова. Образцы для него – Эмилиевы письма» и «Письма обитателя предместья» М. Н. Муравьева; они для него ценны тем, что «заставляют размышлять». Между тем «Исповедь» Руссо устрашила и шокировала Батюшкова своим содержанием, а «слог» ее показался простецким, недостойным «философа»: «Руссо начал софизмами, кончил ужасною книгою, – он пожелал оправдаться перед людьми, как перед богом, со всею искренностию человека глубоко растроганного, но гордого в самом унижении <...> Кто требовал у него сих признаний, сей страшной повести целой жизни? Не люди, а гордость его...» («Нечто о морали, основанной на философии и религии»). И далее в сноске: «Без смеха и жалости нельзя читать признаний женевского мечтателя. Я не стану выписывать тех мест из книги его, которые могут оскорбить нравственность самую светскую, самую снисходительную: их множество <...> Где тут достоинство человека и мудреца? О слоге ни слова. В таком случае слог есть верное выражение души».
На недосягаемой высоте стоит для Батюшкова проза Шатобриана, а в русской литературе – Карамзина. Чем больше проза приближается к поэзии, тем она для Батюшкова эстетически ценнее. От пушкинского принципа «нагой простоты» он очень далек. Он и в прозе – стилист, эстет, причем полностью в духе своего времени: ценит прозу и Шатобриана и Карамзина за «поэтичность», близость к стихотворности [40] [Письма Н. И. Гнедичу от августа 1311 г. и 19 сентября 1809 г.]. «Приятности» требовал от прозы и Карамзин 41 [41 «Отчего в России мало авторских талантов». – Сочинения Карамзина, т. III. СПб., 1848, стр. 528]. Как прозаик, Батюшков сам склонен к украшенному стилю, к перифразам и тропам.
По сравнению со стихами, в его прозе очень сильна стихия нравоучительности. Это также связано со временем, когда морализаторство было неотъемлемо от прозы как жанра.
В прозе Батюшков видел и форму словесного искусства, вспомогательную по отношению к поэзии, как бы ее подготовительную фазу: «Она питательница стиха», – цитирует он Альфиери в записной книжке 1817 г. и замечает: «Для того, чтобы писать хорошо в стихах – в каком бы то ни было роде, – писать разнообразно, слогом сильным и приятным, с мыслями незаемными, с чувствами, надобно много писать прозою, но не для публики, а просто записывать для себя. Я часто испытывал на себе, что этот способ мне удавался; рано или поздно писанное в прозе пригодится...»
К собственной прозе Батюшков относился противоречиво. В его письмах есть и чувство авторской удовлетворенности («том прозы будет интересен» [42] [Письмо Н. И. Гнедичу от начала сентября 1816 г.]), и почти отчаяние, извинения за несовершенства: «Я и не смею думать, чтоб моя проза имела какое-нибудь достоинство» [43] [Письмо В. А. Жуковскому от 3 ноября 1814 г.]. «Я знал слабость моей прозы <...> Большая часть моей книги писана для себя» [44] [Письмо И. И. Дмитриеву от 10 августа 1817 г.].
Современная Батюшкову критика отнеслась к его прозе очень благожелательно: «Самый выбор предметов делает уже честь автору, – писал В. И. Козлов [45] [ «Русский инвалид», 17 июля 1817 г.]. Это отмечал и С. Н. Глинка: «Прозаические произведения его, по скромности сочинителя названные опытами, отличаются разнообразием, вкусом и силой <...> проза г. Батюшкова не уступает его стихам» [46] [«Русский вестник», 1817, № 15–16]. Гораздо позднее Белинский ставил прозу Батюшкова (и Жуковского) выше прозы их учителя Карамзина: «Проза их богаче содержанием прозы Карамзина, а оттого кажется лучше и по форме своей» (отзыв в статье «Русская литература в 1841 году»). Пушкин судил, по всей видимости, более строго. Батюшковская проза слишком не соответствовала принципу «нагой простоты» по своей художественной структуре. Ее перифрастичность, условность шла вразрез с собственными исканиями Пушкина-прозаика. Надо сознаться, что, если исходить из пушкинских критериев, то к прозе Батюшкова частично применимы суждения Пушкина в наброске его статьи «О прозе» (1822), хотя Батюшков там не упоминается, а фигурирует «отчет какого-нибудь любителя театра» и т. п.: «Д'Аламбер сказал однажды Лагарпу: «Не выхваляйте мне Бюфона. Этот человек пишет: Благороднейшее изо всех приобретений человека было сие животное гордое, пылкое и проч. Зачем просто не сказать лошадь». Лагарп удивляется сухому рассуждению философа. Но д'Аламбер очень умный человек – и, признаюсь, я почти согласен с его мнением. <...> Но что сказать об наших писателях, которые, почитая за низость изъяснить просто вещи самые обыкновенные, думают оживить детскую прозу дополнениями и вялыми метафорами? Эти люди никогда не скажут дружба, не прибавя: сие священное чувство, коего благородный пламень и пр. Должно бы сказать: рано поутру, – а они пишут: Едва первые лучи заходящего солнца озарили восточные края лазурного неба <...> Точность и краткость – вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей – без них блестящие выражения ни к чему не служат. Стихи дело другое <...> Вопрос, чья проза лучшая в нашей литературе. Ответ – Карамзина. Это – еще похвала не большая...» [47] [Пушкин. Поли. собр. соч. в 10-ти томах, т. 7. М., Изд-во АН СССР, 1958, стр. 14–16. Далее ссылки на это изд. даются сокращенно] Все это написано не о Батюшкове, но вряд ли стилистика батюшковской прозы была вполне приемлема для Пушкина.
При всем том, мысли и даже отдельные картины из прозы Батюшкова были заимствованы Пушкиным – однако не в прозе, а в «Медном Всаднике» [48] [См. стр. 513]. Это наиболее значительное из заимствований. Попало к Пушкину, причем также не в прозу, а в стихи, несколько отдельных выражений: «суровый Дант» (из «Речи о влиянии легкой поэзии на язык» – в пушкинский «Сонет»: «Суровый Дант не презирал сонета»); «народ, достойный сожаления и смеха» (из письма Гнедичу от 27 мартд 1814 г. – по-видимому, известного Пушкину – в стихотворение «Полководец»: «...О люди, жалкий род, достойный слез и смеха») и т. д. Чуждая Пушкину как жанровая и стилистическая система, проза Батюшкова в своих изолированных от контекста частях могла поражать его верностью концепций, значительностью образов, как это и случилось с описанием в «Медном Всаднике» строящегося Петербурга, почти полностью, местами дословно, заимствованном из «Прогулки в Академию художеств».
В расположении своих прозаических произведений в «Опытах» Батюшков, как и в отношении стихов, отказался от хронологии. Произведения сгруппированы по тематическим и проблемным признакам; сами же группы (как бы разделы, но не названные) также расположены обдуманно.
Книга прозы начинается программными статьями о поэзии, предваряющими все собрание сочинений («Речь о влиянии легкой поэзии на язык» и «Нечто о поэте и поэзии»). Далее следуют очерки, посвященные самым истокам новой русской литературы («О характере Ломоносова» и «Вечер у Кантемира»). К ним примыкает «Письмо» о сочинениях М. Н. Муравьева, старшего современника Батюшкова. Все начало книги пронизано пафосом, который можно определить как «просветительский патриотизм» (подробнее об этом сказано в примечаниях). «Прогулка в Академию художеств» продолжает развитие той же концепции просветительского патриотизма, на материале современном. Здесь уже как воспоминание, как образ прошлого, дано градостроительство петровских времен; от этих начинаний – последовательный переход к созерцанию и оценке плодов искусства, возросших на почве новой, европеизированной России; осуществление прогнозов, которые делал Кантемир в «Вечере у Кантемира». «Прогулкой в Академию художеств» заканчивается тема судеб русского искусства.
Следующие за этим «Отрывок из писем русского офицера о Финляндии» и «Путешествие в замок Сирей» являются путевыми очерками, при этом они объединены между собой военной темой; а «Путешествие в замок Сирей» многими нитями связано с «Вечером у Кантемира» (Россия в начале прошлого века глазами француза; Франция в начале нового века глазами русского).
Своего рода интервалом между всей этой группой текстов и следующими служат «Две аллегории» и «Похвальное слово сну»; между собой их объединяет условность, жанровая традиционность; может быть, этими-то вещами и был более всего недоволен сам автор, расположивший их по принципу, о котором писал Гнедичу: «плохих солдат в середину, так, как полк строят». Как бы то ни было, далее следуют еще две группы текстов: две статьи об итальянской поэзии и перевод из Боккаччо («Ариост и Тасс», «Петрарка», «Гризельда») и две статьи на сугубо моральные темы: «О лучших свойствах сердца» и «Нечто о морали, основанной на философии и религии». Так завершается первый том, а второй открывается (после вводного посвящения «К друзьям») стихотворением «Надежда», продолжающим проблематику последней статьи.
В своих очерках на моральные темы Батюшков опирается на религиозную доктрину. Религиозные понятия, как известно, укреплялись в нем с годами; статья «Нечто о морали, основанной на философии и религии» (1815) и композиционно, и хронологически имеет итоговый характер. Эволюцию Батюшкова можно в какой-то мере представить как путь от Монтеня к Паскалю. Кроме того, в его религиозности есть оттенок провиденциальности, и – в отличие от Жуковского, – национальный пафос, убежденность в том, что не случай, а божественное провидение «устроило» испытания и торжество России. Война 1812 года оказала на нравственно-философские и религиозные воззрения Батюшкова решающее воздействие. И это очень сказалось в прозе.
Религиозность Батюшкова – скорбная, в ней мало просветляющего и утешающего (также отличие от Жуковского). Всем своим жизнеощущением Батюшков слишком привязан к «сладостному» земному; разрушение и неверность прекрасного – источник батюшковской скорби.
События 1812 г., как уже отмечалось выше, в особенности поразили Батюшкова своей разрушительностью; исчезновение на его глазах, в короткий срок, «прежней» Москвы, с ее укладом и людьми, с ее довоенной психологической цельностью, он воспринимал как необратимое крушение целого мира. Его воображение было ранено наглядностью гибелей. Исчезновение «довоенного» русского мира, мира античности, мира скандинавского средневековья – трагически равновеликие темы «позднего» Батюшкова и в поэзии и в прозе. Его разочарование питалось этими мыслями. «Поздний» Батюшков – из всех поэтов ближе всего Баратынскому с его «разувереньем».
В статьях Батюшкова о поэзии совмещены эстетические понятия эпохи классицизма с понятиями романтическими [49] [См.: Н. П. Верховский. Батюшков. В кн.: «История русской литературы», т. V]. Батюшков – фигура во многом характерная для своего переходного времени. Исключительность его отношения к классической античной и итальянской поэзии – черта эпохи, еще столь недалеко отстоящей от XVIII в. Античная и итальянская культура в прозаических очерках Батюшкова – точка отсчета для его теоретических размышлений и конкретных оценок. Пройдет всего несколько лет – и точка отсчета в эстетических представлениях его младших современников изменится радикально. Для молодого Пушкина это уже – Байрон и затем Шекспир. Своеобразие батюшковского неоклассицизма зафиксировано в прозе «Опытов». Батюшков был прав, чувствуя, что «Опыты» подводят итог предшествующему, что перед ним открываются новые возможности творчества. В частности, вскоре после издания «Опытов» произошло и его литературное знакомство с Байроном. Батюшков был на пороге не только своей новой жизни как поэта, но, надо полагать, ему предстояло во многом отойти еще далее от авторитетов XVIII в.
Уже в том, что Ариосто (которого теоретики классицизма расценивали всего лишь как автора шуточной поэмы) стоит у Батюшкова в одном ряду с Тассо, автором поэмы героической, проявлялись романтические тенденции его эстетики [50] [Об изменении отношения к рыцарской тематике и фантастике поэмы Ариосто «Неистовый Роланд» см. в статье Р. М. Гороховой «Из истории восприятия Ариосто в России (Батюшков и Ариосто)». – В кн.: «Эпоха романтизма. Из истории международных связей русской литературы». Л., «Наука», 1975. Р.М.Горохова рассматривает и другие аспекты темы «Батюшков и Италия» и дает краткий обзор современных итальянских работ на эту тему]. И все же, хотя Батюшков затронут веяниями европейского романтизма, самый этот романтизм – ранний; это, например, Жермена де Сталь, воззрения которой повлияли на «итальянские» статьи Батюшкова.
Батюшков – единственный в кругу современных ему литераторов и поэтов – прекрасно знал итальянский язык, изучавшийся им с 1801 г. Итальянский язык (литературное «тосканское» наречие) был для него синонимом языка поэзии, а итальянское Возрождение оказало глубокое влияние на общее представление Батюшкова об искусстве.
Поэзия итальянского Возрождения, наряду с античной, для Батюшкова не только высший образец поэзии, но она для него всецело актуальна тематически и по приемам творчества. Коллизии и стиль поэм Ариосто и Торквато Тассо, которым вскоре предстояло отойти в историю литературы, для Батюшкова трепещут жизнью, цитаты из них у него на устах; их сюжетные положения полны для него актуального трагизма или столь же живого юмора.
Русской поэзии, на необработанный язык которой Батюшков, по собственному выражению, «начинал сердиться» (известны его сетования по поводу звучаний «щ», «при», «тры» и т. п.), он умел придать красоту идеальной формы, исходя из звучания стихов своих любимых итальянцев. В статье «Ариост и Тасс» он опровергает мнение (кстати, высказывавшееся Жерменой де Сталь) о несколько однотонной благозвучности итальянского языка; со знанием дела и художественной интуицией Батюшков приводит интересные примеры фонетического разнообразия – «мужественности», резкости, суровости в стихах из «Освобожденного Иерусалима» Торквато Тассо [51] [О Батюшкове и Тассо см.: М. F. Varese. Le Tasso_ nella poesia e nella critica di uno ecrittore russo dell' Ottocento: K. N. Batjushkov. Bergamo, 1969. О Тассо в России XVIII в. см.: Р. М. Горохова. Торквато Тассо в России XVIII в. – В кн.: «Россия и Запад», Из истории литературных отношений. Под ред. М. П. Алексеева. Л., 1973].
Статья «Петрарка» написана в одном году со статьей «Нечто о морали, основанной на философии и религии» (1815) и имеет с ней много общего в понимании душевных коллизий. Рефлексия и трагизм итальянского лирика рассматриваются как борение светского и религиозного начал. Петрарка противопоставлен античным поэтам как поэт новой, христианской эры, углубившей нравственные понятия, усложнившей идеей бессмертия души самое любовную лирику. Если древние «наслаждались и воспевали свои наслаждения», «страдали и описывали ревность, тоску в разлуке или надежду близкого свидания», то Петрарка «услаждается мыслию о бессмертии души, строгою мыслию, которая одна в силах искоренить страсти земные; но поэзия не теряет своих красок. Стихотворец умел сочетать землю и небо; он заставил Лауру заботиться о славе земной <...> Иначе плачет над урною любовницы древний поэт; иначе Овидий сетует о кончине Тибулла: ибо все понятия древних о душе, о бессмертии были неопределенны».
Батюшков опровергает представление о Петрарке, как поэте, у которого выражение значительнее содержания. «В прозе остаются одни мысли», – заявляет Батюшков, и дает целые страницы замечательных прозаических переводов сложных текстов Петрарки.
Эта статья важна не только как статья о Петрарке. В ней подчеркнуты такие особенности лирики итальянского поэта, которые останавливают внимание в «поздней» лирике самого Батюшкова, и это должно помочь изучению влияния на нее Петрарки [52] [Это изучение, в сущности, только начато в работах А. Некрасова «Батюшков и Петрарка». – «Известия отделения русского языка и словесности» имп. Акад. наук, 1911, т. XVI, кн. 4; N. Contieri. Batjuskov е il Petrarka. – «Annali. . . istituto Universitario Orien-tale di Napoli». Sez. slava, II. Napoli, 1959; M.F. Varese. Batjuskov – un poeta tra Russia e Italia. Padova, 1970]. Текстуальных совпадений (заимствований) из Петрарки у Батюшкова в сущности не так много. Наиболее значительное заимствование – в стихотворении «Пробуждение». Но на Батюшкова явно повлияла общая религиозная устремленность второй части «Канцоньере», о которой он особенно много пишет в статье. Отсюда – мотивы земного странничества, отрясания земных риз, пути к богу, на который оба поэта вступают «уверенной» (у Петрарки), «надежной» (у Батюшкова) «ногой» (в стихотворениях «Надежда» и «К другу»).
|
Quel sol che mi mostrava il cammin destro
Di gire al ciel con gloriosi passi *.
[* То солнце, которое мне указывало правый путь.
Чтоб идти к небу гордыми шагами (итал.).]
|
Эти начальные стихи CCCVI сонета Петрарки узнаются в заключительной строфе стихотворения «К другу»:
|
Ко гробу путь мой весь как солнцем озарен...
|
Проза Батюшкова в «Опытах» – не сюжетная и в этом смысле не «художественная». «Старинную повесть» из русской истории («Предслава и Добрыня») в духе Карамзина Батюшков в «Опыты» не включил. Его жанры – очерки, историко-литературная статья, эпистолярное «путешествие» или «прогулка». В этих рамках он владеет вымыслом, изобретателен и увлекателен. Проза Батюшкова чрезмерно цветиста в «Письме к И. М. М<уравьеву>А<постолу>» и «Двух аллегориях»; в очерке «О характере Ломоносова» – подлинно поэтична. Замечателен «Отрывок из писем русского офицера о Финляндии»: не мифологическими экскурсами и фантазиями, но описанием северной природы. По старинной схеме «времен года» прослежен весь ее жизненный цикл, с достоверностью как мельчайших подробностей, так и общего колорита. Эта вещь – наиболее романтическая во всем томе. Она лишена обычного недостатка описательной прозы того времени – статичности, удаленности предмета созерцания от созерцателя. Описание актуализовано; «времена года» напоминают сценарий; даже глаголы употребляются в настоящем времени (сознательный прием).
В жанре путевых очерков («писем» – вслед за «Письмами русского путешественника» Карамзина) написано «Путешествие в замок Сирей».
Батюшков не раз употреблял в письмах выражение «внутренний человек». Если применить его к самому поэту, то в «Отрывке из писем русского офицера о Финляндии» и в «Путешествии в замок Сирей» голос этого «внутреннего человека» звучит всего непосредственнее. Фактическая часть «Путешествия в замок Сирей» представляет и сейчас ценность точных свидетельств мыслящего и наблюдательного поклонника Вольтера, в глазах которого священна каждая связанная с ним реликвия и еще совершенно непоколебим авторитет «бессмертного автора «Альзиры». Пройдет не так уж много времени – и Пушкин в статье «Вольтер» [53] [«Современник», 1836, III] будет говорить о недавнем кумире (еще в лицейские годы Вольтер был кумиром для него самого) скептически, без всякого священного трепета. Батюшковское «Путешествие» запечатлело один из последних этапов поклонения Вольтеру в России. Но предвестием новой литературной эры является здесь образ самого автора, «внутреннего человека». Его подвластность настроениям, чувствительность, рефлективность, психическая неустойчивость выразились в троекратном сломе повествования, в меланхолических мыслях о смерти, о тщетности славы, в глубокой печали и неуверенности, сменивших первоначально взятые мажорные тона. И самое существенное то, что это нисколько не литературный прием, а спонтанное обнаружение «внутреннего человека». Здесь внезапно исчезает та дистанция между автором и читателем, которую Батюшков соблюдал и в стихах и в прозе.
В книгу «Опытов» не вошли дневники и воспоминания Батюшкова, в еще большей мере приближающие к нам «внутреннего человека». Они печатаются в разделе «Приложений», так же как «Прогулка по Москве». Не вошли, разумеется, и его частные письма, изобилующие литературным материалом, составляющие целостный фон для его прозы; их живость и свобода способствовали формированию стиля Батюшкова-прозаика [54] [Весь массив писем опубликован в кн.: К. Н. Батюшков. Сочинения под ред. Л. Н. Майкова, т. II. СПб., 1886, с немногими пропусками, восполненными в позднейших публикациях].
* * *
«Опыты в стихах и прозе» – первый сборник произведений Батюшкова [55] [Возможно, мысль об издании сборника возникла у Батюшкова еще в 1810 г.; об этом свидетельствует составленное им тогда «Расписание моим сочинениям», содержащее 44 стихотворения. Впрочем, этот перечень мог быть сделан и без цели издания. Из перечисленных в нем стихотворений не сохранились: «К Ч-ой», «Желания», «Семь грехов», «Ода Лебрюна на старость», «Блестящий червяк», «Орел и уж», «На смерть Хераскова», «Урок красавице», «Хлоин ответ», «А. П. С. Приписание», «Лиса и пчелы», «Песнь песней». Под названием «Русский витязь» подразумевается, вероятно, стихотворение «Истинный патриот». Остальные могли быть уничтожены самим Батюшковым, как не удовлетворяющие его. Батюшков не оставил архива, уничтожал автографы (среди сохранившихся почти нет черновых)]. До этого, начиная с 1805 г., он печатался в журналах и альманахах. И в том и в другом его на несколько лет опередил Жуковский56 [56 Первое выступление в печати в 1802 г., первое собрание сочинений в 1815–1816 гг.]. Выход в свет, в двух частях, «Стихотворений Василия Жуковского» укрепил Батюшкова в намерении выпустить свой сборник.
Структура батюшковских «Опытов» своеобразна, хотя объединение в одном собрании сочинений прозы и стихов – не новшество. Например, так было задумано издание произведений М. Н. Муравьева [57] [Два тома прозы вышли в 1810 г., выход третьего тома – стихов – задерживался]. Для Батюшкова имело значение то, что проза здесь предшествовала стихам. Название «Опыты», данное в подражание книге Монтеня, часто встречалось во французской литературе и было употребительно в русской (собрание сочинений Муравьева было озаглавлено «Опыты истории, словесности и нравоучения»; С. С. Бобров издал в 1804 г. «Рассвет полночи, или созерцание славы <...> в стихах и прозе опытов»).
Обдумывая состав своего собрания, Батюшков сначала предполагал печатать только стихи и советовался об этом с Н. И. Гнедичем в письме от начала августа 1816 г. Он боялся недобросовестности профессиональных издателей, и Гнедич, с которым его связывала давняя дружба, предложил свои услуги в качестве издателя. Упомянутое издание произведений Жуковского также было выпущено друзьями автора. Батюшков полагался на дружеское понимание и художественный вкус переводчика Гомера.
Хотя Батюшков поставил условие, чтобы издание осуществлялось без предварительной подписки, Гнедич тем не менее счел нужным объявить подписку на второй, стихотворный том сразу по выходе первого тома. Батюшков переживал это болезненно и боялся насмешек критики [58] [«Но ты меня убьешь подпискою. Молю и заклинаю не убивать. Ну скажи бога ради, как заводить подписку на любовные стишки», – письмо от мая 1817 г.]. Однако подписка прошла успешно; подписалось 183 человека, в основном из Петербурга и Москвы. Число подписчиков было по тому времени внушительным.
Казалось, все шло хорошо. Между тем Батюшкова мучительно терзала неуверенность в успехе. Он был глубоко неудовлетворен собой и полон робости. В написанной Гнедичем заметке «От издателя» он вычеркнул хвалебный отзыв о своих стихах; просил выпустить «все вдруг, без шуму, без похвал, без артиллерии, бога ради!» (письмо от второй половины февраля 1817 г.). Поместить в издании свой портрет отказался наотрез: «Портрета никак! На место его виньетку, на место его «Умирающего Тасса», если кончить успею...» (там же; далее перечисляются «Странствователь и домосед» и неосуществленная, по-видимому, имевшая автобиографическую подоснову, сказка «Бальядера»).
О своем страхе «провалиться» Батюшков иногда пишет в шутливом тоне: «Ах, страшно! Лучше бы на батарею полез, выслушал всего Расина Хвостова и всега новорожденного Оссиана [59] [Имеются в виду переводы из Оссиана В. Н. Олина, печатавшиеся в 1817 г. в «Сыне отечества»], нежели вдруг, при всем Израиле, растянуться в лавках Глазунова, Матушкина, Бабушкина, Душина, Свешникова, и потом – бух!.. в знакомые подвалы» (цитата из собственного «Певца в Беседе...». – Письмо Н. И. Гнедичу от начала июля 1817 г.). В письмах 1817 г. преобладают жалобы на неблагоприятные для творчества обстоятельства: «Что скажешь о моей прозе? С ужасом делаю этот вопрос. Зачем я вздумал это печатать. Чувствую, знаю, что много дряни; самые стихи, которые мне стоили столько, меня мучат. Но могло ли быть лучше? Какую жизнь я вел для стихов! Три войны, все на коне и в мире на большой дороге. Спрашиваю себя: в такой бурной, непостоянной жизни можно ли написать что-нибудь совершенное? Совесть отвечает: нет. Так зачем же печатать? Беда, конечно, не велика: побранят и забудут. Но эта мысль для меня убийственна, убийственна, ибо я люблю славу и желал бы заслужить ее, вырвать из рук фортуны, не великую славу, нет, а ту маленькую, которую доставляют нам и безделки, когда они совершенны. Если бог позволит предпринять другое издание, то я все переправлю; может быть, напишу что-нибудь новое...» (письмо Жуковскому от июня 1817 г.). В письме к П. А. Вяземскому от 23 июня 1817 г.: «Скажи по совести, какова моя проза: можно ли читать ее? Если просвещенные люди скажут: это приятная книга, и слог красив, то я запрыгаю от радости. Сам знаю, что есть ошибки против языка, слабости, повторения и что-то ученическое и детское: знаю и уверен в этом, но знаю и то, что если меня немного окуражит одобрение знатоков, то я со временем сделаю лучше. Пускай говорят, что хотят, строгие судьи и кумы славенофиловы! Не для них пишу, и они не для меня; но не понравиться тебе и еще трем или четырем человекам в России больно, и лучше бросить перо в огонь».
Предполагалось вначале, что подготовка тома стихов займет не более месяца, однако она потребовала около года, тем более, что поэт хотел закончить и включить в собрание несколько новых произведений. Не имея средств для жизни в Петербурге или Москве, Батюшков занимался подготовкой собрания в своей деревне Хантоново, где его отвлекали и раздражали материальные заботы. Времени стало не хватать. «Нет покоя! Такой ли бы том отпустил стихов?..» Батюшков опасался, что в издание войдут заведомо, как он считал, слабые вещи. В этом отношении проза беспокоила его меньше, чем стихи. Что касается стихов, то почти в каждом письме 1816 г. Гнедичу повторяется просьба о строгости отбора. «Дряни не печатай. Лучше мало, да хорошо. И то половина дряни». Состав стихотворного тома был в значительной мере в ведении Гнедича. Но Батюшков отказался от хронологического принципа и сам установил деление на отделы («Элегии», «Послания», «Смесь»). Отбор и расположение внутри отделов были поручены Гнедичу. Поэт просил Жуковского и Вяземского также принять участие в отборе и правке текстов. «Дряни, ой, как много! Вяземский у вас теперь. Он обещал взглянуть на издание. Посоветуйся с ним. Я знаю его: он без предрассудков и рука у него не дрогнет выбросить дрянь. Я уже просил его об этом» (письмо от мая 1817 г.). С разрешения Батюшкова Гнедич кое-что поправлял в самих текстах (например, в «Беседке муз»). Колебания в выборе текстов продолжались до последнего момента. Уже когда часть тиража была сброшюрована, из отдела «Смесь» были выкинуты несколько эпиграмм («Известный откупщик Фадей», «Теперь сего же дня...», «О хлеб-соль русская») и стихотворение «Отъезд» («Ты хочешь горсткой фимиама...»). Монументальные, элегии «Переход через Рейн» и «Умирающий Тасс», сказка «Странствователь и домосед» (их Батюшков собирался поместить «вместо портрета») и «Беседка муз» попали в самый конец книги, причем элегии – с повторной рубрикацией.
Именно по книге «Опыты» знал Батюшкова современный ему читатель.
Отвергнув в «Опытах» хронологический принцип, Батюшков в предваряющем второй том обращении «К друзьям» тем не менее говорит об «истории» его страстей, которую читатель найдет в стихотворениях. Слово «история» здесь приближается по значению к слову «прошлое». «Журнал» (дневник), которому Батюшков уподобляет здесь собрание своих стихов, – это смена событий, настроений, удач и неудач «прежних дней». Батюшков не прибегает к биографической циклизации, не дает «истории» в смысле развития той или иной ситуации или чувства. В этом отношении он не следует ни примеру своего любимого Петрарки, ни примеру Парни, создавшего лирический роман о любви к Элеоноре. Чтоб усилить впечатление единства цикла, Парни даже заменял имена других женщин, героинь его любовной лирики, на имя Элеонора.
Батюшков, как об этом и говорится в стихотворении «К друзьям», стремился представить свою жизнь в разнообразии ситуаций и переживаний, свое лирическое творчество – в разнообразии жанров.
В «Опыты» включены медитативные, исторические, любовные элегии Батюшкова, переложения элегий античных, дружеские послания, стихотворная сказка, эпиграммы, басни, надписи. Свои блестящие литературные сатиры Батюшков печатать в «Опытах» отказался наотрез (в настоящем издании они публикуются в отделе дополнений), так как не хотел в первом собрании сочинений выступить в роли обидчика собратьев по поэзии. В «Опыты» входит 52 стихотворения, то есть, в сущности, очень мало; деление на три раздела («Элегии», «Послания», «Смесь») создает стройную архитектонику сборника и увеличивает смысловое пространство.
Лирика Батюшкова – лирика жанровая. При этом некоторые жанры (например, историческая элегия) вводятся поэтом в русскую поэзию впервые.
Новые лирические формы, созданные и отточенные Батюшковым – в элегиях «Выздоровление», «Мой гений», «Пробуждение»; они имели значение для Пушкина. Любовные элегии в «Опытах» отличаются большим лаконизмом и экспрессивностью, чем это предусматривалось традицией (в том числе Парни) [60] [В. В. Виноградов подробно исследовал особенности специфически-батюшковской архитектоники. В. В. Виноградов. Стиль Пушкина. М., Гослитиздат, 1941, стр. 306-307]. Послание «Мои пенаты» также отклоняется от принятого в русской поэзии того времени «Дмитриевского» канона дружеского послания. Но эти отклонения были не разрушением жанров, а созданием новых, батюшковских. Так, «Мои пенаты» явились эталоном для молодого Пушкина («Городок»). В других своих посланиях Батюшков ближе следует жанровой традиции, созданной в основном И. И. Дмитриевым. В стиле литературно-разговорной «болтовни» (как выражался Пушкин, использовавший его в лирических отступлениях «Евгения Онегина») свободно объединяется серьезное с шутливым. Батюшков окончательно закрепляет этот канон. Не должно поэтому удивлять, что патетическое стихотворение «К Дашкову» помещено не в разделе посланий, а в разделе элегий. В батюшковском представлении о жанре дружеского послания важнее интонация, чем наличие обращения «мой друг». Стихотворение «К Гнедичу» и вовсе не является посланием.
Три основных раздела «Опытов» представляют разные типы стихотворного повествования.
В элегиях – полностью господствует авторский мир, в ряде случаев – опосредствованно (в переложениях из Тибулла, «Судьбе Одиссея», «Пленном», в монументальных «исторических» элегиях).
В посланиях почти непременно присутствует адресат; он вводится в текст со своими мнениями, привычками, суждениями, поведением и т. п.
Отдел «Смесь» в подавляющем большинстве представляет некую «стороннюю» точку зрения, за исключением стихотворения «К Никите» (на его месте первоначально было стихотворение «Отъезд»). Возможно, по типографским причинам его уже нельзя было поместить в разделе посланий, хотя по своей структуре это именно послание (предшествовавший ему «Отъезд», обращенный к условной «Хлое», жанру «дружеского послания» не соответствовал).
После выхода в свет «Опытов» Батюшков хотел повторить издание тома стихов, сначала предполагая назвать книгу «Опыты в стихах», затем остановился на названии «Стихотворения Константина Батюшкова». Книге должна была быть предпослана в качестве введения «Речь о влиянии легкой поэзии на язык». Батюшковский экземпляр второй части «Опытов» хранится в ГПБ. Подготовку нового издания Батюшков начал в 1819–1821 гг. во время пребывания в Италии и Германии. В текст «Опытов» внесено несколько стилистических поправок. Зачеркнуты 10 стихотворений [61] [«Тибуллова элегия III», «Веселый час», «К Петину», «Сон воинов», «Сон могольца», «Надпись к портрету Н. Н.», «Надпись на гробе пастушки», эпиграммы «Всегдашний гость, мучитель мой», «Памфил забавен за столом», «Как трудно Бибрису со славою ужиться». «Хор для выпуска» сначала был вычеркнут, затем восстановлен]. Имеется помета: «В будущем издании выкинуть все, что зачеркнуто». Взамен Батюшков хотел ввести в книгу переводы из «Антологии», созданные в 1817–1818 гг., после выхода «Опытов» и «Подражания древним» (1821). Он вписал их на чистых страницах книги. Также вписана «Надпись для гробницы дочери Малышевой». Вписаны и затем зачеркнуты названия девяти стихотворений: «Воспоминания Италии», «Море», «Судьба поэта», «Псалмы» (остальные не поддаются прочтению); тексты этих произведений не сохранились; неясно, были ли они написаны или только задуманы. Зачеркнута заключительная фраза предисловия от издателя («Издатель надеется...» и т. д.).
После издания книги Батюшков лелеял замыслы сказок, поэм, новых монументальных элегий. Они написаны не были, сохранились лишь названия: «Бальядера», «Рурик», «Овидий в Скифии», «Ромео и Юлия», «Мне хотелось бы дать новое направление моей крохотной музе и область элегии расширить», – слова в письме к Жуковскому от июня 1817 г. Внимание к монументальным элегиям сказалось и в структуре «Опытов»: ими начинается и ими оканчивается том стихов. Была задумана также статья о Данте.
Книгу «Опытов» Батюшков рассматривал как подведение итога своему поэтическому прошлому. В письмах 1816–1817 гг. Гнедичу, Вяземскому, Жуковскому он повторяет не раз, что ему хочется «сбыть все старое с рук», начать некий новый этап жизни и творчества.
Несмотря на опасения автора, «Опыты» были благожелательно приняты критикой. После выхода первого тома появилась упомянутая рецензия В. И. Козлова в газете «Русский инвалид» (1817, № 156), восторженная по отношению ко всему творчеству Батюшкова.
«Кто из просвещенных любителей отечественной словесности не читал, кто не восхищался стихотворениями г. Батюшкова?.. Кто не видел в нем одного из достойнейших поэтов века Александрова? Кто не отдавал справедливости отличному и вместе образованному его таланту, пламенному воображению, богатству мыслей, силе чувств, приятности выражения и сладостной гармонии стихов его? Прозаические его произведения, рассеянные в разных журналах и по большей части напечатанные без имени автора, вообще не столь известны, хотя не менее того заслуживают. Полное собрание как тех, так и других есть прекраснейший подарок, какой только сочинитель и издатель могли сделать публике...» Хвалебные заметки о первой части «Опытов» были помещены в «Сыне отечества»–1817, № 27, о второй части–1817, № 41. Но Батюшкова самые эти похвалы тревожили своей, как ему казалось, неумеренностью.
«Достал и читал я объявление в «Инвалиде» и ужаснулся. Козлов или смеется или дурачит меня <...> Необычайные похвалы мне повредят только, дадут врагов, а к достоинству книги ничего не прибавят. Теперь, перечитывая книгу, вижу все ее недостатки. Если какой-нибудь просвещенный человек скажет, прочитав ее: «Вот приятная книжка, слог довольно красив, и в писателе будет путь», то я останусь довольным. <...> Сделают идолом, а завтра же в грязь затопчут» (письмо Гнедичу от второй половины июля 1817 г.). Большая рецензия на все собрание, написанная С. С. Уваровым, появилась в издававшейся в Петербурге на французском языке газете «Le Conservaieur impartial» (1817, № 83). В ней говорилось о различии и значительности двух направлений в русской поэзии, созданных Жуковским и Батюшковым. Этой стать и Батюшков был, вероятно, доволен.
В 1818 г. Н. И. Греч положительно отозвался об «Опытах» в № 1 «Сына Отечества» [62] [Подробнее библиографию см.: Н. В. Фридман. Творчество Батюшкова в оценке русской критики 1817– 1820 годов. – «Ученые записки Московского университета», вып. 127. Труды кафедры русской литературы. М., 1948].
В конце 1810-х–начале 1820-х годов ситуация в литературной жизни с большой быстротой менялась, и это сказалось на отношении к Батюшкову. Формировалась декабристская критика, которая отнеслась к поэту сурово. Батюшкову, вероятно, остались неизвестны крайне резкие, презрительные замечания на полях первого тома «Опытов» (проза) близкого ему человека, Никиты Муравьева, который расценил прозу Батюшкова с чисто политической точки зрения и даже приписал ему сервилизм перед властями [63] [См. примечание на стр. 563]. Декабристская критика, отстаивавшая «гражданское» искусство и боровшаяся против «личной» лирики, резко осудила личную поэзию в известной переписке 1825 г. Рылеева и А. Бестужева с Пушкиным. Кюхельбекер, в 1820 г. еще восторженно разобравший поэтику Батюшкова в рецензии на не вошедшие в «Опыты» переводы из «Антологии», в статье «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» [64] [«Мнемозина», ч. II. М., 1824] осудил Батюшкова за «подражание» иностранным авторам.
Пушкин в письмах 1825 г. спорил с Рылеевым и Бестужевым и писал о Батюшкове: «Что касается до Батюшкова, уважим в нем несчастия и не созревшие надежды» [65] [А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10-ти томах, т. 10, стр. 118]. Отношение Пушкина к Батюшкову выражено в его известных замечаниях по поводу книги «Опыты». На полях своего экземпляра второй (стихотворной) части «Опытов» Пушкин сделал множество пометок, зачеркиваний и замечаний [66] [Там же, т. 7, стр. 564–592]. Замечания почти поровну делятся на отрицательные («вяло», «плохо», «черт знает что такое») и восторженные («прекрасно», «прелесть», «совершенство», «гармония»). Пушкин выступает как нелицеприятный рецензент, озабоченный при этом интересами автора; более того, он правит местами текст, зачеркивает длинноты, куски текста, которые считает «вялыми». Происходит как бы повторная подготовка текста «Опытов» к печати. Но это, конечно, впечатление кажущееся. Пушкин делал свои замечания для себя. По поводу стихотворения «Мечта», которое он считает не удавшимся, Пушкин пишет то самое словечко «дрянь», которое так часто встречалось в письмах Батюшкова, умолявшего выкидывать неудавшиеся стихотворения. Пушкин в сущности проделал именно тот отбор, о котором Батюшков просил Гнедича, Вяземского, Жуковского. Нельзя исключить того, что одним из поводов для Пушкина взяться за это, по существу, редактирование «Опытов в стихах» было чтение указанных выше писем Батюшкова, хранившихся у общих друзей. Критикуя неудавшиеся, по его мнению, стихи, Пушкин употребляет еще одно выражение из самокритичных суждений Батюшкова, считавшего, что в некоторых его писаниях есть что-то «детское». Дважды это слово употребляет и Пушкин (по поводу отдельных кусков из стихотворений «Мечта» и «К Г<неди>чу»). То, что Пушкин был в курсе этой переписки, во всяком случае, знал о просьбах Батюшкова «выкидывать лишнее», доказывается замечанием об отборе текстов: «Батюшков – не виноват» [67] [На стр. 145 принадлежавшего Пушкину экземпляра «Опытов»]. Многие суждения Пушкина об «Опытах» представляют интерес исторический. Пушкин выступает по отношению к Батюшкову как собрат по перу и судит строго и профессионально. Как младший современник, Пушкин еще не находится от Батюшкова на такой дистанции, чтобы дорожить его архаическими чертами, которые он так умел ценить у писателей XVIII в. Раздражали Пушкина такие вещи, как «Мечта» и вообще «стихи, достойные Василия Львовича». Правда, Пушкин отмечает как заслуживающие подражания батюшковские «счастливые усечения» прилагательных.
Для понимания поэтики зрелого Пушкина его «Замечания» дали бесценный материал; их многократно использовали в литературе о Пушкине.
Пушкин критикует аллегорический и перифрастический стиль. Многие его суждения хрестоматийно известны. Стремление к предметности, вещности собственного стиля продиктовало критику Пушкиным «Моих пенатов»: «Главный порок в сем прелестном послании – есть слишком явное смешение древних обычаев мифологических с обычаями жителя подмосковной деревни». Сходны по типу замечания о «Послании г. В<елеурско>му». По поводу стиха «Как ландыш под серпом убийственным жнеца» («Выздоровление») замечено: «Не под серпом, а под косою. Ландыш растет в лугах и рощах – не на пашнях засеянных». Не понравился «Странствователь и домосед», которым Батюшков как раз очень дорожил. С восхищением разобраны стихотворения «Тень друга» («Прелесть и совершенство – какая гармония!»); «Таврида» («По чувству, по гармонии, по роскоши и небрежности воображения – лучшая элегия Батюшкова»); «К другу» («Прелесть! Да и все – прелесть! звуки итальянские! Что за чудотворец этот Батюшков!»); «Радость» («вот батюшковская гармония»); «Вакханка» («Подражание Парни, но лучше подлинника, живее»); «Переход через Рейн» («Лучшее стихотворение поэта, сильнейшее и более всех обдуманное»); «Беседка муз» и «Привидение» («прелесть»). Одной из лучших элегий Батюшкова названо «Выздоровление». Самая строгость Пушкина – следствие глубокого проникновения в сущность новаторской поэтики Батюшкова. «Живость», динамичность одних стихотворений, внимательно отмечаемая Пушкиным, дает основание применить этот критерий и к другим и назвать их более «вялыми». Синтаксическая и фонетическая гармония, особенно характерная для Батюшкова, служит критерием для критики его же «неудачных оборотов». Точность поэтического словоупотребления, разработанная Батюшковым, дает основание для нескольких упреков ему же в «темноте» смысла. Стройность архитектоники в лучших созданиях («обдуманность», «полнота») – основание для упрека в нескольких других случаях в «растянутости». Как «собственно батюшковскую» Пушкин проницательно характеризует манеру изображать внутренние движения души через внешние признаки (позы, движения, состояния). Таков смысл замечания на полях текста «На развалинах замка в Швеции» («Вот стихи прелестные, собственно Батюшкова...» – по поводу стихов 69–72). В некоторых случаях Пушкин с экспериментальными целями, для себя, предлагает поправки к тексту Батюшкова («Точнее бы вера» – в конце стихотворения «Надежда») и т. д.
Разумеется, есть ряд случаев, когда мы вправе с замечаниями Пушкина не согласиться. К их числу можно отнести отрицательную оценку «Умирающего Тасса», а также ставшее хрестоматийным замечание о ландышах, которые растут «не на пашнях засеянных» и потому погибают «не под серпом, а под косою» [68] [Вероятно, Пушкин помнил свое послание 1815 г. «К Батюшкову», где, перефразируя этот стих, употребил именно слово «коса»]. В контексте батюшковского стихотворения слово «коса» (если бы в тексте стояло «под косой убийственной») неизбежно должно было обрести аллегорический смысл («коса смерти»), что глубоко, и не в лучшую сторону, сказалось бы на всем содержании стихотворения. В других случаях Пушкин протестует против синтаксических инверсий Батюшкова, в том числе и против изысканной инверсии в двух заключительных стихах «Пробуждения»: «Смысл выходит – холодными словами любви – запятая не поможет». Между тем затрудненность этой фразы семантически очень эффективна. Некоторая придирчивость Пушкина сказалась и в том, что он укоряет Батюшкова за стихи 104–105 «Элегии из Тибулла»; в них имеется в виду не Тифон, а Титий. Время, когда Пушкин делал свои замечания на полях «Опытов», точно не установлено. Отсутствие автографа затрудняет дело. В большом академическом издании замечания предположительно датируются 1830 г.; в малом – временем не ранее 1830 г.
Дополнительный свет для этого пока не решенного вопроса дает, как нам представляется, пушкинская запись об элегии «Умирающий Тасс». Она имеет свою историю. В 1834 г. (28 апреля) находившийся в крепости Кюхельбекер сделал в дневнике запись: «Fiat justitia et pe-reat mundus! Хотя жаль, а должно же, наконец, сказать, что Батюшков вовсе не заслуживает громких похвал за «Умирающего Тасса», какими кадили ему за это стихотворение, когда он еще здравствовал, и какими еще и поныне, например в «Телеграфе», кадят за оное его памяти. «Умирающий Тасс» – перевод с французского; подлинник охотники могут отыскать в французском «Альманахе муз» 90-х годов; автор – женщина». Кюхельбекер ошибся [69] [См. стр. 569]. Но важно, что начало пушкинской записи является репликой на предыдущий текст: «Эта элегия, конечно (подчеркнуто мною. – И. С), ниже своей славы. – Я не видал элегии, давшей Батюшкову повод к своему стихотворению, но сравните «Сетования Тасса» поэта Байрона с сим тощим произведением...» 12 февраля 1836 г., выйдя на поселение, Кюхельбекер после 12-летнего перерыва послал Пушкину первое письмо. 3 августа того же года он ответил на не дошедшее до нас письмо Пушкина, из которого следует, что Пушкин что-то писал ему о его дневнике, и Кюхельбекер дает объяснения («Еще одно: когда я начал дневник свой, то именно положил, чтоб он отнюдь не был исповедью...» [70] [А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 16-ти томах, т. 16. М, Изд-во АН СССР, 1949, стр. 147] и т. д.). Пушкин, как известно, получал рукописи Кюхельбекера, и, по-видимому, также часть его дневника; это с несомненностью следует из письма Кюхельбекера. Указание на «источник» (мнимый) «Умирающего Тасса» Кюхельбекер излагает как некое свое открытие. Не исключено, таким образом, что пушкинские заметки сделаны после 1834 г. [71] [Косвенно это подтверждается еще одним суждением Пушкина, там же, об «Умирающем Тассе»: «здесь, кроме славолюбия и добродушия (см. замечание) ничего не видно. Это – умирающий Василий Львович, а не Торквато». Когда в 1830 г. В. Л. Пушкин умер, то племянник проводил его в могилу с грустью, словами о его литературной воинственности (Полн. собр. соч., в 10-ти томах, т. X, стр. 306). Лишь через несколько лет восприятие могло так сильно измениться. Многозначительное замечание о «добродушии» (т. е. в данном случае наивности) относится к стихам 66–69 «Умирающего Тасса»: «Ни в хижине оратая простова – Ни под защитою Альфонсова дворца – … не спас главы моей». По-видимому, эти строки были восприняты Пушкиным очень лично, с раздражением – после 1834 г. оно особенно сильно обуревало его под фиктивной и оскорбительной «защитой дворца»].
Отношение Пушкина к Батюшкову, по-видимому, не было стабильным. В наброске статьи 1824 г. («Причинами, замедлившими ход нашей словесности...») он писал: «... Батюшков, счастливый сподвижник Ломоносова, сделал для русского языка то же самое, что Петрарка для италианского». Что было стимулом для нового, столь внимательного и придирчивого чтения Пушкиным «Опытов», остается все же неясным.
Батюшков, подобно Жуковскому, закрепил победу лирики нового типа. В этом – широком – смысле воздействие Батюшкова на русских поэтов никогда не прекращалось. В смысле более узком элегия Батюшкова и его антологический стих имели огромное значение для Пушкина. В дальнейшем приемы батюшковского «антологического» стиля были восприняты «антологической» поэзией 40–60-х годов (А. Майков, Щербина). Очень велико значение батюшковского гармонического стиха для поэзии Фета.
Источник: Семенко И. М. Батюшков и его «Опыты» / И. М. Семенко // Опыты в стихах и прозе / К. Н. Батюшков; изд. подгот. И. М. Семенко. – М., 1978. – С. 433–492.
|