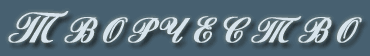Титульный
лист |
И. Шайтанов
КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ БАТЮШКОВ
|
||||||||||||||||
|
К этому времени Батюшков не только знал о четвертом, но и посетил его в Лицее. В ряду пушкинских учителей, его старших друзей Батюшков стоит отдельно. Может быть, никто не предсказал явление Пушкина полнее и определеннее, чем он. Отсюда и пушкинское восхищение его стихами, и острота неприятия в них того, что ощущалось как уже пережитое, пройденное тогда, когда русская поэзия стремительно уходила вперед. Молодость Пушкина, самое начало успел захватить Батюшков, чтобы перед своим ранним закатом почувствовать силу юного поэта: «О! Как стал писать этот злодей!» Они познакомились, говорили о стихах. Старший, к этому времени прошедший войну, переживший отчаянье в сожженной Москве и триумф победы в поверженном Париже, готовый забыть то, что казалось теперь поэтическими безделками и у себя и у других, советовал не тратить времени и увлечься темой важной, героической. Лицеист, однако, проявил характер, упорствовал и ответил посланием, где, цитируя Жуковского, оставлял за собой право выбирать: «Будь каждый при своем...» Так кончалось второе пушкинское послание, а в начале первого – прекрасная характеристика Батюшкова, увиденного через его эпикурейские, небывало легкие, гармоничные стихи: «Философ резвый и пиит, // Парнасский счастливый ленивец...» И чуть дальше – «радости поэт». Спустя полтора десятилетия, в 1830 году, Пушкин посетит уже давно и безнадежно больного Батюшкова, который его не узнает. «Не дай мне бог сойти с ума...» – не тогда ли начало складываться это пушкинское стихотворение? Не так уж редко имена оказываются известнее стихов. Что мы помним из Батюшкова? Человек, любящий поэзию, не может не знать того, что стало классикой: «Тень друга», «Таврида», «Вакханка»... И, конечно, «Мой Гений», первые строки из которого приобрели ту высшую степень известности, когда имя автора может быть забыто, а стихи помнятся, принадлежащие то ли литературе, то ли уже самому языку:
До сих пор исследователи разгадывают странную оценку этих строк, оставленную Пушкиным. Вероятно, в 1824–1825 годах в Михайловском, когда Пушкин готовил свой первый поэтический сборник, он внимательно, с карандашом и пером в руке перечитал второй – стихотворный – том батюшковских «Опытов в стихах и прозе», вышедших в 1817 году и ставших настоящим событием. Восторженные оценки на полях чередовались с критическими, подчас резкими. Напротив стихотворения «Мой Гений» Пушкин написал: «Прелесть, кроме первых 4». То есть кроме тех строк, которые помнятся прежде всего. Почему? Почему Пушкин не оценил то, что станет любимым и известным? Предполагают разное. Пытаются объяснять в пользу Батюшкова, защищая любимые строки от пушкинской несправедливости. Быть может, говорят, Пушкин в силу его молодости не ощутил в них глубины психологической. Едва ли. Скорее дело в другом, – в особом пушкинском чувстве индивидуального стиля, стиля личности. В том чувстве, следуя которому он многократно правил собственные стихи, добиваясь, чтобы не просто хорошо было сказано, но сказано – свое. Пушкин критически расценивал не только те или иные строчки Батюшкова, но те или иные стороны его таланта: «Как неудачно почти всегда шутит Батюшков!» Еще по его пометам складывается впечатление, что он мог бы сказать: «Как неудачно рассуждает Батюшков». И тот бы, наверное, согласился, потому что и сам так думал: «Рассуждать несколько раз пробовал, но мне что-то все не удается...» Во всяком случае, программных батюшковских стихов Пушкин не принял. Не принял «Мечту», которую Батюшков переписывал полтора десятилетия, пытаясь создать оду воображению, вслед Карамзину доказать, что лишь «мечтание – душа поэтов и стихов», только в мечте – счастье. Холодно отнесся Пушкин и к «Умирающему Тассу». Этой элегией Батюшков предполагал открыть переиздание «Опытов», считая ее своим лучшим стихотворением. Многие современники были с этим согласны, но не Пушкин, находивший Тассо в изображении Батюшкова лишенным своей страстной натуры. Страсть и поэзию в батюшковских стихах он видел не там, где шло рассуждение, каким быть поэту, как мечтать, что помнить, но там, где мечта без лишних слов одухотворялась памятью, подсказавшей первый звук, за которым – почти как в сказке, за волшебной музыкой, – пораженному взору является играющая красками картина. Так ведь и в «Моем Гении», где после первых четырех строк память рисует образ несравненной пастушки:
Какое быстрое и, как бы в то время сказали, роскошное воображение! Как мало слов – и как много мы видим. Именно видим – в цвете, в движении, усиленном троекратным повтором: «помню», – и струящимся звуком и легкой интонацией. Легкой называл свою поэзию и сам Батюшков. Изначально этот эпитет применительно к поэзии имел терминологическую силу – обозначал определенный жанр, хотя и не строгий, к которому могли быть отнесены самые разнообразные стихи, написанные по случаю, вслед беглому чувству или впечатлению. Однако именно в батюшковской поэзии легкость стала свойством ее самой, всего ее стиля, проникнутого присутствием автора, который представляет нам не то, что можно увидеть везде и всегда, но что он сам и именно сейчас видит, переживает. Зримость – отчетливое качество пластических батюшковских образов, отличающее его от очень близкого ему поэта-современника В. А. Жуковского. Их реально существующую близость иногда преувеличивали, представляя неким тождеством манеры, движением по одному пути – к Пушкину. Пути были параллельные, но все же разные. И если их продолжать уже за пределами пушкинской эпохи, можно сказать, что Жуковский с его погоней за Невыразимым, ускользающим от грубого чувственного прикосновения, предвосхищает Фета, Батюшков же – Тютчева, тоже пережившего романтическое сомнение в силе слова, в его способности сохранить глубину душевных впечатлений и все же ведущего в своих стихах нескончаемый диалог души и природы, в котором духовное, незримое опредмечивается, расцветает и получает чувственное выражение. К этому слову прибегнул и Батюшков, когда в одном из последних писем, уже подводя окончательный итог сделанному в поэзии, сказал о себе как об авторе, «который в стихах, может быть, имеет одно достоинство – в выражении...» Понимать сказанное можно по-разному. Можно сузить смысл высказывания до оценки поэтического стиля, которому Батюшков придал необычайную гибкость и совершенную гармонию. Молено говорить также о небывалой до него полноте самовыражения: «И жил так точно, как писал...», можно подразумевать живописную изобразительность образа... Однако вернее всего будет не останавливать выбор на чем-то одном, тем более что каждое из названных свойств его поэтической выразительности продолжается в другом и без него невозможно. Острота зрения возрастает по мере того, как наблюдающий осознает свою индивидуальность и особенность своего взгляда, сказывающуюся в стихе особенностью выражения. Но разве мало у Батюшкова штампов поэтического языка и традиционной образности, скажем, мифологических отсылок? Много, очень много, ибо, создавая свой стиль, он, подобно Пушкину после него, ничего не отбрасывает, но всему дает новое направление и новую жизнь. Мифологических отсылок к одному из самых любимых им периодов мировой культуры – к античности, у Батюшкова даже больше, чем мы обычно замечаем. В современных изданиях слово «гений», в том числе и в названии стихотворения «Мой Гений», печатают со строчной буквы. Понятное стремление следовать правилам новой орфографии. Но ведь старые поэты писали по старой орфографии, и, выправляя их стихи, мы порой уничтожаем рифмы, искажаем смысл или, по крайней мере, не замечаем чего-то важного. И в данном случае мы не замечаем, что для Батюшкова Гений – персонаж мифологический, тот дух, который, по представлениям древних, сопровождает человека в течение всей его жизни, охраняет его. Это младшее божество, принадлежащее тем Ларам и Пенатам, которым поэтически поклонялся Батюшков. Мифологическое понимание слова принадлежало времени, так же оно употреблено и у Жуковского: в стихотворении «К мимо-пролетевшему знакомому Гению» и в строке, властно присвоенной себе Пушкиным (присвоенной по праву гения в современном смысле слова): «Гений чистой красоты...» Батюшков и Жуковский сходятся в мифологическом понимании образа, но и более ни в чем. Для Жуковского духовное лишь как бы незримым присутствием веет, сквозит в предметном мире. Для Батюшкова сам мифологический персонаж легко оживает, обретая форму и образ. Его Гений – его возлюбленная, являющаяся ему условной пастушкой, которая, однако, увидена так явственно, чувство к которой так лично и неподдельно, что мы забываем о пасторальной условности и вспоминаем о том, что именно в этот момент – летом 1815 года – Батюшков болезненно переживал разрыв и разлуку с Анной Фурман. Способность высветлять в стихах то, что тяжко давило, мучило в реальности, еще не вовсе оставила его. Так же легко, как он умел реальность облекать покровом мечты, он и саму эту мечту представлял реальностью, красочной и волнующей. Мифологическая образность у Батюшкова менее всего выглядит бутафорской. Следуя за поэтом, мы никогда не ощущаем себя среди музейных экспонатов: гравюр ли с мифологическими эмблемами или мраморных статуй. Под его прикосновением все тотчас же приходит в движение: на розовых конях снисходит Аврора, «урчу хладную вращая, Водолей валит шумящий дождь», являются Мольба смиренная и быстрая Обида... И сам поэт легко переносит себя в одухотворенный его мечтой мир, так что с равным правом его лирическое «я» звучит в послании кому-либо из друзей и в «Вакханке», где он предстает среди участников древнего празднества:
Стихотворение даже для Батюшкова – ведь мы, читатели, скоро привыкаем к достоинствам – поразительно пластикой: все зримо, все слышимо... Первый же звук – как бы издалека донесшийся многоголосый, неистовый крик вакханок – будит воображение, и до конца последней строфы, кольцом замыкающей всю композицию, нас не отпускает ощущение уводящего за собой стремительного бега. Погоня, в которой мы то ли свидетели, то ли участники, ибо подчинились ритму, заданному поэтом:
Взвевали – перевитые – свивали – обвитый... Созвучные глаголы вьются, как в воронку затягивают, кружат голову – так что едва успеваешь различать мельканье летящих, на бегу брошенных цветовых пятен:
«Вакханка» – один из многочисленных у Батюшкова переводов Парни, легкого, изящного французского поэта. В переводах, точнее – в переложениях изящества не меньше, чем в оригинале, но гораздо более силы, более жизни. Это и понятно: Парни как бы иллюстрировал, подсвечивал миф игрой воображения, Батюшков же переносился в этот вымышленный мир, оживляя его своим «я», которого даже номинально в тексте Парни не было: вакханку преследовал пастушок Миртис. «Смело и счастливо», – пометил на полях «Вакханки» Пушкин, и эта помета может быть отнесена ко всему стихотворению. Пушкин вообще был готов в большей мере оценить те стихи Батюшкова, в которых поэт вступал в круг образов условных, своим присутствием давая им новую жизнь, и в меньшей – те, в которых условное нарочито соседствует с реальным. «Моим Пенатам», стихотворению прославленному, вызвавшему многие подражания (в том числе и пушкинское – «Городок»), Пушкин делает упрек: «Главный порок в сем прелестном послании – есть слишком явное смешение обычаев мифологических с обычаями подмосковной деревни». Да, подмосковной или вологодской деревни, ведь Батюшков родился в Вологде, детство провел в Даниловском, в нескольких верстах от Устюжны. Позже он ежегодно и надолго приезжал в доставшееся им с сестрами по разделу имение рано умершей матери – Хантоново под Череповцом. Там написаны многие стихи, в том числе и «Мои Пенаты». Поместная жизнь на русском Севере была тише, беднее, чем в центре. Все же вокруг Вологды в ту пору можно было насчитать несколько фамилий, пусть не громко, но прозвучавших в литературе: Олешевы, Брянчаниновы, Межаковы... XVIII век был временем, когда провинциальные дворянские гнезда превращались в один из центров новой культуры. После того, как в первой четверти столетия прошумела гроза петровских преобразований, все как будто снова улеглось, успокоилось, и дворянское сословие вырвало у преемников Петра признание своей вольности, состоявшей в праве выбирать между государственной службой (при Петре обязательной) и привольным житьем на покое в своих вотчинных владеньях. Многие тогда выбрали покой, не обремененный лишними заботами и лишними знаниями. Культура же, по острому слову В. О. Ключевского, приставала к ним, «как пыль к колесу». Однако постепенно вслед выписным модам потянулись в провинцию и книги выписные, зашелестели страницы коричневых томиков в кожаных переплетах. Образованность требует досуга, которого более чем достаточно в деревенском уединении, не раз воспетом Батюшковым. Впрочем, воспитание Константина не было деревенским. В десять лет он уже в Петербурге, во французском, потом в итальянском частном пансионе и под надзором своего родственника М. Н. Муравьева, поэта, которому он многим обязан, человека широко образованного и влиятельного – бывшего воспитателем цесаревича Константина, а позже попечителем Московского университета, сенатором. Литературный дебют Батюшкова пришелся на «дней Александровых прекрасное начало». Каждый год – новые литературные журналы, салоны, общества. Сначала в доме Муравьевых Батюшков завязывает первые знакомства, потом – в 1805 году – делается членом «Общества любителей российской словесности, наук и художеств», где силен дух радищевских идей. За свою недолгую жизнь в литературе Батюшков был приглашаем и вступил во многие общества, но, может быть, только в этом да десятилетием позже в «Арзамасе» он чувствовал себя своим. Верность друзьям он ставил выше верности литературным программам и скептически наблюдал, как тут и там объединялись «любители словесности», которых он в письме к Н. И. Гнедичу назовет и «губителями» и «рубителями», а о своем вступлении в московское общество при университете сообщит, перефразируя Державина: «Я истину ослам с улыбкой говорил». Батюшков не был создан для литературной борьбы. Мечтательный и нежный в своем любимом жанре – в элегии, он умел быть резким в эпиграмме, в сатире, но литературу он всегда любил более тех обществ, в которых состоял. Он с готовностью признавал, когда ее видел, правоту за своими противниками, чувствовал их достоинства. Позволил же он в «Видении на брегах Леты» спастись, хотя и не без труда, главе противоборствующей партии архаистов – А. С. Шишкову, утопив при этом в волнах реки забвения правоверных эпигонов карамзинизма. В «легкой поэзии» Батюшков шел путем М. Н. Муравьева и Н. М. Карамзина, но дальше их, достигая большего совершенства. Он начал с того, что понял: одическое громогласие не для него. Не для него высокий штиль славянской архаики. Пусть поэзия черпает силу, как учил Карамзин, из живой речи и сама влияет на речь, а через нее – на нравы, воспитывая общество, пробуждая в нем «людскость». Об этом его программное слово (его-то он и преподнес в качестве истины «Любителям словесности» при Московском университете) «О влиянии легкой поэзии на язык», которым Батюшков предполагал предварить переиздание стихотворной части «Опытов», но не успел осуществить задуманного. «Легкие стихи – самые трудные». Батюшков имел право так сказать, хотя это утверждение не во все времена верно. После Пушкина поэтическая легкость станет уделом эпигонов, только ленивый не пишет стихов! Другое дело – до Пушкина, пока сам язык еще не приобрел способности к выражению «тонких идей» и когда легкость являлась как результат преодоленной трудности, давалась с усилием. «В бореньях с трудностью силач необычайный...» – вполне можно было бы сказать и о Батюшкове. Во всяком случае, в русской поэзии он достоин своего арзамасского прозвища – Ахилл, хотя и в шутку ему данного, за непоседливость – по сходству с быстроногим греком и одновременно за малый рост и хрупкое телосложение: «Ах – хил!» Легкости, звучной и гибкой мысли искал он в русском языке, временами отчаиваясь ее добиться: «И язык-то сам по себе плоховат, грубенек, пахнет татарщиной. Что за ы? Что за щ, что за ш, ший, щий, при, тры? О варвары! А писатели? Но бог с ними! Извини, что я сержусь на русский народ и его наречие. Я сию минуту читал Ариоста, дышал чистым воздухом Флоренции, наслаждался музыкальными звуками авзонийского языка...» Письмо к Н. И. Гнедичу, едва ли не самому близкому батюшковскому другу, написано в конце 1811 года. К этому времени Батюшков уже участвовал в войне, получил ранение, но еще впереди для него и для всей русской армии – победоносный поход по Европе, закончившийся в Париже. Важный для русского самосознания исторический опыт, приобретя который Батюшков и о языке скажет иначе: «Каждый язык имеет свое словосочетание, свою гармонию, и странно было бы русскому, или италианцу, или англичанину писать для французского уха, и наоборот. Гармония, мужественная гармония не всегда прибегает к плавности». Мужественнее и совершеннее зазвучит и гармония батюшковского стиха, в котором отзовется гордость победителя, заговорившего в тишине после битвы, заговорившего с уверенностью, что его слово, спокойное и торжественное, будет услышано:
Какая поэзия в перечислении географических имен, поэзия, рождающаяся оттого, что география на наших глазах одухотворяется историей, и Россия, бывшая до тех пор для Европы чужим и странным именем, за которым скрылись безграничные дикие пространства, вдруг явилась в самом сердце цивилизованного мира победителем, гордым и великодушным. Исторически – сбывалось то, что начал Петр. Поэтически – завершалось то, что предсказал восторг ломоносовских од, одухотворенный верой в будущее России, впервые наполнивший ее имя поэзией. Если же перевести взгляд с прошлого в будущее, уже готовое наступить, то вполне уместно вспомнить слова Белинского о Батюшкове: «Это еще не пушкинские стихи; но после них уже надо было ожидать не других каких-нибудь, а пушкинских...» И даже более того – зрелого Пушкина, автора «Полтавы» и «Медного всадника». Каково же место Батюшкова в русской литературе, кто он в терминах историко-литературных? Сентименталист, романтик или кто-то еще? И не то, и не другое, и не третье, хотя и то, и другое... Дело здесь даже не в самом Батюшкове, не только в его сложности, присущей каждому крупному писателю и выходящей за рамки любых однозначных определений. Дело, прежде всего, – в судьбе русской литературы, которая за несколько десятилетий ускоренно проходила тот «курс», который для литературы английской или французской растянулся на несколько веков. Вот почему в творчестве каждого значительного русского писателя – от Ломоносова до Пушкина – есть черта и Возрождения и Просвещения... Постепенно выравнивался исторический шаг с современными европейскими литературами, но попутно доделывалось то, что было некогда пропущено: формировался язык национальной культуры, которая овладевала просвещенной мыслью, в том числе и центральным для нее понятием – о достоинстве и величии человека. Трудно сказать, пережил ли кто-либо из русских поэтов столь же восторженно и вдохновенно, как Батюшков, чувство участия в европейской культуре, принадлежности всему, что есть в ней лучшего, достойного, прекрасного. Это было чувство полноты и полноправности обладания, что Батюшков и выразил в заглавии, данном мыслям из записной книжки – «Чужое: мое сокровище». То, что прежде было чужим, понятое и пережитое, становилось своим, не повторялось, а создавалось заново и по-своему. Батюшков еще и потому насмешливо, несерьезно смотрел на борьбу литературных обществ, что самого себя и своих друзей-единомышленников ощущал состоящими в том обществе, где сочленами – Гомер, Тибулл, Петрарка, Тассо, Парни, Шиллер, то есть все, кого он переводил, перелагал, в ком ловил отражение собственных чувств, кто для него были домашними богами-покровителями, его Пенатами. И еще одно имя – Байрон. Батюшков в числе первых начал переводить в России его, своего сверстника, ставшего символом нового искусства – романтического. Принадлежал ли этому искусству и сам Батюшков? В его творчестве перед нами не готовое, но как бы становящееся романтическое сознание. Сознание, которое вначале еще слишком погружено в открывшийся ему чудесный мир красоты, поэзии, чтобы глубоко задуматься о том – достижима ли эта красота, доступна ли мечта. Вначале достаточно того, что она, возвышающая мечта, есть, – в ее присутствии легко проходят первые приступы меланхолии. Батюшков еще во многом классичен в своих эстетических привычках: он творит, оглядываясь назад, подкрепляя себя лучшими образцами, которые, правда, он выбирает свободно, по своему усмотрению и которыми собственного выражения нимало не сковывает. Скорее он их заставляет приспосабливаться к себе, чем себя к ним, значительно усиливая в них то, что сам хотел бы сказать. Высший момент одушевления, радости в его жизни и творчестве будет и началом болезненного разочарования. Прекрасно чувствовать себя победителем в центре Европы, но тяжким предчувствием томило возвращение. В «Судьбе Одиссея» Батюшков готов объяснить себя в образе гомеровского героя: «...Проснулся он, и что ж? Отчизны не познал». Аналогия едва ли верная. Скорее батюшковское чувство при возвращении совпало с тем, что пережили многие русские офицеры: слишком хорошо они узнавали все то, что оставили, находя неизменным. Это было страшным, заставляя одних помышлять о тайных союзах, повергая в уныние Других:
Многое соединилось в эти годы в судьбе Батюшкова: и личная драма, и личная неустроенность человека необеспеченного, для службы не созданного, беспокойного. Что же, так и оставаться «господином поэтом»? Ни славы, ни денег это не сулило. В таких обстоятельствах особенно тяжко ощущаются ковы времени и особенно безысходно:
Стихи сбивающиеся, неправильные, во время болезни написанные. ...Рисунок середины прошлого века: спиной к зрителю перед открытым окном стоит невысокий, коротко стриженый человек в долгополом сюртуке и в ермолке. Батюшков в вологодском доме своего родственника Гревенса, где он и прожил последние двадцать два года. Все неподвижно, скованно, как всегда на любительских рисунках, – как будто время остановилось. Как будто оно замерло для Батюшкова в видимых из окна куполах Софийского собора. Для него, кто так явственно умел слышать шум времени, ощущать его полет, обдающий холодком неизбежной смерти и обостряющий чувство красоты, ускользающей прелести бытия. И еще – при виде этих застывших куполов вспоминается, каким живым историческим чувством обладал Батюшков: его поэтического прикосновения было достаточно, чтобы прошлое зазвучало, пришло в движение, чтобы древние башни, стены, перестав казаться мертвым камнем, предстали как «свидетели протекшей славы и новой славы наших дней». Эти строчки в числе многих других отозвались у Пушкина – он повторил их в своих стихах, – напоминая, как много батюшковского отзывается и остается в русской поэзии. Источник: Шайтанов И. Константин Николаевич Батюшков (1787–1855) / И. Шайтанов // Батюшков К. Н. Стихотворения. – М., 1987. – С. 3–16. |
|||||||||||||||||