Виктор Астафьев, Валентин Распутин – эти имена пользуются сегодня большой популярностью у читателей. И вот читателям предстоит превратиться в зрителей. Почти одновременно вышли на экран картины по книгам В. Астафьева и В. Распутина.
Режиссер И. Таланкин экранизировал астафьевскую повесть «Звездопад». Снял фильм Г. Рерберг. Не из одного лишь уважения к таланту и мастерству оператора имя его по справедливости должно быть названо именно здесь, в самом начале. С первых же кадров мы поймем: «Звездопад» принадлежит к тем картинам, где оператор и режиссер работают в полном смысле на равных.
Проза Астафьева изобилует бытовыми подробностями. Фильм бытовых подробностей почти лишен. Впрочем, по-своему он пристально подробен, но сами подробности эти иного рода. Мы не увидим на экране ни описанного Астафьевым госпиталя, занявшего помещение бывшей школы и живущего своим устоявшимся, в чем-то даже уютным бытом. Нам не дано будет рассмотреть медсестру Лиду изучающим, дорожащим всякой мелочью взглядом героя. Собственно, и сама история любви, составившая сюжетную основу повести («Любовь моя родилась при свете лампы в госпитале. Об этом я расскажу сам»), почти не имеет на экране именно «сюжета» и «истории». По сравнению с книгой она явится зрителю еще менее состоявшейся еще более разоренной и ограбленной войной.
«Война страшная... Не надо об ней шутить». В словах, оброненных героем «Звездопада» по вполне конкретному, частному поводу, заключена одна из основополагающих в творчестве Астафьева мыслей. Всем своим духом, всей своей печалью и затененным светом всей своей великолепной изобразительностью служит раскрытию этой мысли поставленная И. Таланкиным и снятая Г. Рербергом картина.
Война – страшная. Даже железо, даже камень, даже земля на экране предстают неузнаваемо искаженными. В смертельных увечьях и горестных шрамах, в метинах рваных ран, в пятнах расползающейся, как гангрена, ржавчины. Действие одной из сцен фильма происходит на палубе «вчистую комиссованного» корабля-инвалида. Не выставляющий напоказ свою боль и беду, не унижающийся до того, чтобы стыдиться их и прятать, корабль этот, кажется, существует на экране как «личность» почти в той же мере, что и остальные герои.
Жизнь довоенная и жизнь войны не просто далеки. Они противоположны, несопоставимы. несближаемы. В квартире Лиды вместо описанного в повести натюрморта висит на стене портрет молоденькой Лидиной матери. Не для того ли, чтобы показать, как неузнаваема она сейчас, нужен фильму этот портрет? И не для того ли прошла глубокая трещина по стеклу портрета, похоронив, перечеркнув все навеки «за чертой» войны оставленное?
Прифронтовой госпиталь – место действия большинства эпизодов картины. Приемное отделение, санпропускник, перевязочная, операционная – истекающая кровью, в заскорузлых бинтах человеческая плоть. Ей отдано авторское сострадание, нежность, восхищение. Как тонки и чутки пальцы человеческой кисти, как изящен свод ступни, как эластична мускулатура плечевого пояса... Эти кадры подобны фрагментам живописи старых мастеров. «Вот видишь – проходит пора звездопада, и, кажется, время навек разлучаться... А я лишь теперь понимаю, как надо любить, и жалеть. и прощать и прощаться...» Предваряющие фильм стихотворные строки Ольги Берггольц адресованы, кажется также и к ней живой человеческой плоти. Экрану ее «любить и жалеть». И прощать ей горькую искалеченность и прощаться с ней.
Выбор на центральную роль актера П. Федорова поначалу может озадачить. Казалось, что в этом фильме облик героя мог быть более рафинированным, отрочески светлым. Может озадачить и то, что авторы фильма, торопливо и как бы не очень вникая, пролистывают всю предшествующую биографию Михаила Ерофеева. Словно бы они даже не очень настаивают на окающем говоре Мишки: то явственно различим, то вовсе теряется этот характерный говорок. Как будто бы им представляется неважным многое из того, что в книге было существенным. Но может быть, для создателей картины всего более существенно главное, вот именно это – «простой парень, простой солдат»? Множественность судеб стоит за героем этой картины.
Война – страшная... Глумится над памятью о прошлом, сквернословит и гаерствует девчонка Женя (В. Глаголева), превращенная войной в сироту, побродяжку, ощетинившийся комок отчаяния и отчаянности. Ломает тонкие пальцы мать Лиды (А. Демидова), чье лицо запечатлело трагический надлом. Да и сама Лида (Д. Михайлова), героиня романа Мишки Ерофеева, его вымечтанная госпитальными ночами возлюбленная, умудрена пониманием несвоевременности, невозможности своей любви Только однажды она взбунтовалась открыто, испрашивая у судьбы еще один день себе в дар. Но плата тут была бы слишком дорога, а путь достижения слишком неправым. И героиня все это понимает. В пальто с побитой рыжей лисой, в беретике, «оживленном» акрихином, она навсегда исчезнет для Мишки. И в этой, прямо перекочевавшей с книжных страниц рыжей лисе, в акрихинной желтизне беретика откроется пунктуальная точность, любовная преданность автору повести авторов столь в буквалистском смысле «неточной» экранизации
«По Виктору Астафьеву» – такой подзаголовок открывал перед И. Таланкиным достаточную свободу действий. Кроме «Звездопада», в фильм вошли астафьевские «Сашка Лебедев» и «Ода русскому огороду». Судьба Сашки Лебедева (П. Юрченков) органически вплелась в основной сюжет. «Ода русскому огороду» породила эпизоды, которые условно можно назвать ретроспективными. Они проходят через картину как вспышки, озарения памяти героя. Идиллические видения детства призваны стать залогом, что попранная войной гармония мира пребудет несокрушенной, вечной. Как и во всей картине, изобразительные решения здесь безупречны. Но, может быть, противопоставление получилось уж слишком очевидным.
Как бы то ни было, но блоковское «Девушка пела в церковном хоре...», вдруг прозвучавшее так нежданно в одной из самых жестоких, «больных» сцен картины, становится эмоциональным ударом, несравненно более сильным, несет в себе куда более содержательную и драматичную внутреннюю контрастность.
Фильмы, поставленные Игорем Таланкиным за вот уже двадцатилетний срок, трудно выстраиваются в единый ряд. Не столько потому, что неодинаковой оказывалась степень удачи, сколько – из-за разности эстетических притяжений, определявших собой ту или иную очередную работу. Но вот две картины: теперь уже давние «Дневные звезды» и «Звездопад». Они существуют по общим законам. Их роднит пронзительная интонация личной исповеди, соединенная с осознанием нерасторжимости отдельной человеческой судьбы и единой судьбы народа. Сплавленность лирического и драматического начал. Высокое и звездное – увиденное в горьком, будничном. Нескованность построения, метафоричность киноязыка, использование ассоциативных ходов... Нить преемственности, связавшая эти две этапные для режиссера работы, очевидна и плодотворна
В отличие от «Звездопада» другая экранизация – «Василий и Василиса» режиссера И. Поплавской, – это картина прежде всего «актерская», собственно даже – картина одной актрисы, исполнительницы центральной роли О. Остроумовой. Здесь кинематограф изначально, программно подчиняет себя прозе. «Василиса просыпается рано... Василий поднимается не рано: рано ему подниматься незачем»... Так, прозвучавшими за кадром словами «от автора», начинается фильм. И все происходящее в первом эпизоде точно раскрывает смысл этой распутинской фразы. Даже не только смысл, но и подтекст, настроение, ритм. За хмурой размеренностью быта, за угрюмым его автоматизмом возникает эта наглухо замкнутая драма двоих, глубина их устоявшегося отчуждения. В. Распутин изобразил на редкость цельный, истинно народный женский характер, непреклонный, чистый, прямой... Но только ли в том что Василиса всегда была хороша, а Василий всегда плох, лежит объяснение горькой жизненной несчастливости обоих?
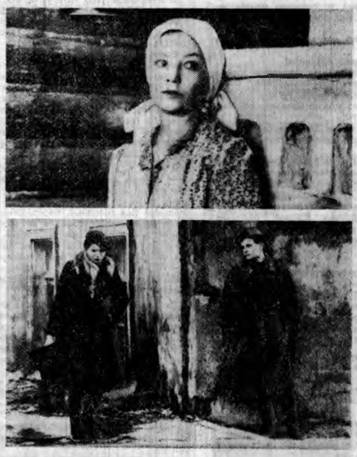
Кадры из фильмов «Василий и Василиса» и «Звездопад»
Воссоздать на экране длинную человеческую жизнь от юности до заката – задача нелегкая. В поисках ее решения фильм останавливается порой на грани иллюстративности. К примеру, сцены счастливой молодости Василисы иногда напоминают буколические картинки. Фильм становится интересным, лишь когда прикасается к внутренней драме Василисы.
Этой суровой, гордой душе не дарованы ни радость прощения, ни способность признания собственных вин, хотя бы и незначительных по сравнению с виной Василия. Она закаменела в своем неизбывном, правом гневе против мужа. Настолько, что и не заметила, как тот из неосновательного пустельги превратился в угрюмого, неприбранного старика, немало, видно, передумавшего о жизни в амбарном своем заточении. Не заметила она и того, что дети в этой ссоре с отцом заняли его сторону. Или видела, но не могла себя пересилить, сломить. И уже не разобрать, победительницей или жертвой собственного характера стала.
Одна из лучших в картине – сцена с едва не павшим на поле в голодный военный год конем. Увещевая, подбадривая, подначивая своего Игреню, разговорилась молчальница Василиса. Весь нерастраченный клад терпеливой нежности, милосердия, участия отдала коню. Как бы кровью своей, как бы дыханием своим оделила. И – исцелила, подняла на ноги.
От этой сцены еще долго будет идти внутренний свет, которым вдруг озарится финал картины – прощание Василисы с умирающим Василием. Между ними будут сказаны простые и немногие слова. Но непримиренные их души в эти мгновения будут вознесены, пользуясь писательским образом (образом правда, не распутинским, а астафьевским), «на такую высоту, где творятся только святые дела». «Прощенья прошу». – «Прощаю тебя, и ты прости меня». Вот слова которыми обменяются эти двое в свой прощальный, в свой «звездный» миг. Такая высота предьявляет кинематографу ответный высокий счет, и фильм, способный на нее отозваться, достоин уважения уже за это. И есть еще пункт, хотя и частный, однако не последний в вопросе экранизации прозы. Речь идет о способах, путях введения закадрового текста «от автора». Он вообще не строго обязателен, многие экранизации – «Звездопад» в том числе – это подтверждают. Тем не менее, в преобладающем числе фильмов закадровый текст неизменно звучит. Порой как наспех поставленная заплата, прикрывающая слабость, изьян. Чаще как вспомогательное средство, выполняющее чисто информационные функции. Реже – как продуманный прием, существующий в общей художественной системе картины. К сожалению, только начало «Василия и Василисы» показалось в этом отношении многообещающим. Дальше сценарий обнаружил некоторое авторское равнодушие к закадровому распутинскому тексту. Начиная со служебно бесцветного – «Прошло столько-то лет...» Вплоть до вопиюще ненужного – «Кони на колхозных полях едва таскали ноги» – и в без того исчерпывающе-выразительном эпизоде с конем.
А жаль! Ведь голос «от автора» есть непосредственная форма писательского «присутствия» в вещи, отторгнутой oт него экраном и начавшей новое, уже независимое от автора бытие...