31 РГАДА. Ф. 1441. Оп. 1. Д. 28. Л. 3.
32 ОР РНБ. Кир.-Бел. 759/1016. Л. 286 об.
33 ОР РНБ. ДА. А1/16. Л. 1150; ОДКК. № 531; ПКЕДВ. С. 12.
34 Савелов Л. М. Указ. соч. С. 189; ОДКК. № 494.
35 ОДКК. № 261.
36 ОР РНБ. ДА. А1/16. Л. 1149 об., 1150.
37 Савелов Л. М. Указ. соч. С. 189; ПКЕДВ. С. 20.
38 АГР. Т. 1. № 55; Обзор ГКЭ. Вып. 2. С. 58.
39 АГР. Т. 1. № 55.
40 Курдюмов М. Г. Описание актов, хранящихся в архиве Императорской Археографической Комиссии // Летопись занятий археографической комиссии за 1904 год. Вып. 17. СПб., 1907. С. 396.
41 РГАДА. ГКЭ. № 9695; КДГ. № 124/4, 124/5.
42 ОДКК. № 530.
43 АЮ. № 83; ОДКК. № 498.
44 Там же. № 259.
45 Там же. № 421.
46 Савелов Л. М. Указ. соч. С. 189; ААЭ. Т. 1. С. 317.
47 СГГД. № 198.
48 РГАДА. ГКЭ. № 9691; КДГ. № 124/16; Веселовский С. Б. Указ. соч. С. 192.
49 ОР РНБ. Соф. 1152. Л. 95 об.; Кир.-Бел. 78/1317. Л. 222.
50 ОР РНБ. ДА. А1/16. Л. 837; ОДКК. № 340.
51 ОР РНБ. ДА. А1/16. Л. 813; ОДКК. № 328; Летопись занятий археографической комиссии за 1926 год. Вып. 1 (34). Л., 1927. С. 324.
52 АЮ. № 259.
53 Обзор ГКЭ. Вып. 2. С. 65, 66, 74, 123; ЧОИДР. М., 1900. Кн. 3 (194). № 4. С. 65; ОДКК. № 116, 199, 200, 204, 353, 1950; Летопись занятий археографической комиссии за 1926 год... С. 316; РГАДА. ГКЭ. № 816/115, 817/116.
54 Летопетопись зий археографической комиссии за 1926 год... С. 317.
55 РГАДА. ГКЭ. № 836/135; Обзор ГКЭ. С. 127; ОДКК. № 211; См. также: ОР РНБ. ДА. А2/40. Л. 27 об.; Кир.-Бел. 78/1317. Л. 116.
56 Наместничьи, губные и земские уставные грамоты Московского государства / Под ред. А. И. Яковлева. М., 1909. № 8. С. 74.
57 Садиков П. А. Очерки по истории опричнины. М.; Л., 1950. С. 175.
58 Кобрин В. Б. Состав опричного двора Ивана Грозного // Археографический ежегодник за 1959 год. М., 1960. С. 22.
59 Скрынников Р. Г. Трагедия Новгорода. М., 1994. С. 79.
60 ОР РНБ. ДА. А1/16. Л. 679; ОДКК. № 261. Анализ этого акта предпринят Е. И. Колычевой (см.: Колычева Е. И. Аграрный строй России XVI века. М., 1987. С. 111, 112).
61 ПКЕДВ. С. 11-20.
62 РГАДА. ГКЭ. № 857/156.
63 Садиков П. А. Указ. соч. С. 110.
64 Memoires du prince Pierre Dolgoroukow. Geneve, 1867. Vol. 1. P. 132.
65 3имин А. А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964. С. 352.
66 Альшиц Д. Н. Новый документ о людях и приказах опричного двора
Ивана Грозного после 1572 года // Исторический архив. Т. 4. М.; Л., 1949. С. 3-71.
67 ОР РНБ. ДА. А1/16. Л. 837.
68 Там же. Л. 813.
69 Павлов А. П. Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове. СПб., 1992. С. 181; Кобрин В. Б. Материалы генеалогии княжеско-боярской аристократии. М., 1995. С. 102, 103.
70 ОР РНБ. Кир.-Бел. 756/1013. Л. 40; 78/1317. Л. 396.
71 Там же. 753/1010. Л. 39. Слова "Хованской" и "княгиня его" надписаны киноварью над именами.
72 ОР РНБ. Кир.-Бел. 87/1325. Л. 109.
73 ВГИАХМЗ. ОПИ. ВОКМ-2013. Л. 178.
74 ОДКК. № 494, 529-531; Опись строений и имущества Кирилло-Бело-зерского монастыря 1601 года. СПб., 1998. С. 208.
75 АЮ. № 3.
76 Десятня новиков, поверстанных в 1596 году // Известия Русского генеалогического общества. Вып. 3. СПб., 1909. С. 130.
M. С. Серебрякова
О ТОПОГРАФИИ ДВУХ ФЕРАПОНТОВСКИХ
ЗАХОРОНЕНИЙ КОНЦА XVI - НАЧАЛА XVII ВЕКА
В КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКОМ МОНАСТЫРЕ
Н. К. Никольский в своей известной книге, посвященной Кирилло-Белозерскому монастырю, в четвертом приложении "О месте погребения разных лиц (XVI-XVII вв.) в Кириллове монастыре" приводит выдержки из двух рукописей, где перечислены около 90 лиц, захороненных в монастыре в период XVI - первой четверти XVII века1. Среди погребенных в это время в Кирилле-Белозерском монастыре упоминаются два ферапонтовских старца: Евфимий, бывший игумен Ферапонтова монастыря, похоронен "за церковью чюдотворца Кирила за олтарем подле Никиту Истлениева"2 и Иоанникий Осокин, келарь Ферапонтова монастыря, похоронен "за олтарем у чудотворца Кирила неблизко, подле больничные дороги"3.
Об игумене Евфимии известно, что он 15 января 1580 года принимал участие на соборе в Москве4, а в 1582/83 году в челобитной игумена Кирилло-Белозерского монастыря, в котором он жил на покое, Евфимии упоминается как "бывшей игумен ферапонтовской"5. Между февралем 1580 года и 9 июля 1583 года игумен Ферапонтова монастыря Евфимии, видимо, предполагая перебраться туда на покой, дал в Кириллов монастырь на строительство кельи 10 рублей6. Синодик Кирилло-Белозерского монастыря упоминает о вкладе бывшего игумена ферапонтовского Евфимия в 208 рублей, в монастыре в память Евфимия был назначен корм на "июня 11 день"7.
О старце Ферапонтова монастыря, келаре Иоанникий Осокине, известно, что он вложил в 1591/92 году в Кириллов монастырь воротные часы, а в 1607/08 году брал в Кириллове монастыре по поручению ферапонтовских игумена Матфея и старцев под заклад 100 рублей. Умер Иоанникий Осокин в Кириллове монастыре в конце мая 1608 года, так как 6 июля этого года на сорокоуст по нему было выдано 20 алтын8.
Где расположены могилы ферапонтовских иноков, позволяет уточнить внимательное рассмотрение перечня мест погребений Кирилло-Белозерского монастыря. Таких мест немного: у братских и гостиных келий, за алтарями Успенского собора и церкви Кирилла - для простых иноков, в паперти Успенского собора, за алтарем церкви Архангела Гавриила - в основном для знатных иноков и вкладчиков. Пристроенный в 1554 году к Успенскому собору придел князя Владимира стал родовой усыпальницей князей Воротынских.
Опись 1601 года дает точное расположение бывших в конце XVI века в монастыре келий: "А келей на монастыре. От болших от Святых ворот на правой стороне против трапезы 2 кельи игуменские, а меж ими сенцы дощатые, на той же стороне по казенную полату 5 келей брацких, на другой стороне от Святых ворот 2 кельи гостиных, да 7 келей брацких, а от тех до болниц 16 келей, а бол-нишных 2 кельи, а от болнишных да Спасьских Преображенских ворот 12 келей. И всего в болшом монастыре игуменских и брацких деревяных 46 келей"9.
Кельи располагались по периметру квадрата, включавшего трапезную, казенную палату, Святые ворота под церковью Иоанна Лествичника и Святые ворота под Преображенской церковью, ведшие на Сиверское озеро. Перечень упоминает о кельях "в воротном ряду", большой дороге от нижнего ряда келий (от церкви Архангела Гавриила), дороге от игуменских келий и больших ворот (Святых ворот под церковью Иоанна Лествичника), больничной дороге, дороге в угол к кельям "воротного ряда", или "дорожке", за алтарем церкви Кирилла. Сравнивая данные описи 1601 года и перечня, можно представить, что имелось в виду под тем или иным наименованием. "Воротный ряд" - скорее всего, 2 гостиных и 7 братских келий, располагавшихся налево от Святых ворот, "нижний ряд" - 12 келий между больничными кельями и Преображенскими воротами. "Большая дорога" вела от Святых ворот к Преображенским воротам. К "большим воротам" - Святым - шла дорога от игуменских келий, находившихся рядом с трапезной, напротив Успенского собора. К гостиным кельям от северных дверей паперти собора также вела дорога. "Больничная дорога" проходила "за олтарем у чудотворца Кирила неблизко", скорее всего, вдоль 16 келий, располагавшихся в восточной части Успенского монастыря. Из угла, образованного этими 16 кельями и 7 кельями воротного ряда, вела "дорошка", или дорога, к Преображенским воротам.
Перечень различает места захоронений знатных лиц - паперти Успенского собора, вокруг собора (Шереметевы, Палецкие, Нащокины и другие), в церкви святого Владимира (Воротынские), рядовых старцев и мирских - на территории. Эти захоронения можно разделить на девять зон:
а) перед кельями нижнего ряда "близко большой дороги от нижнего ряду келей" (Геласий Межников);
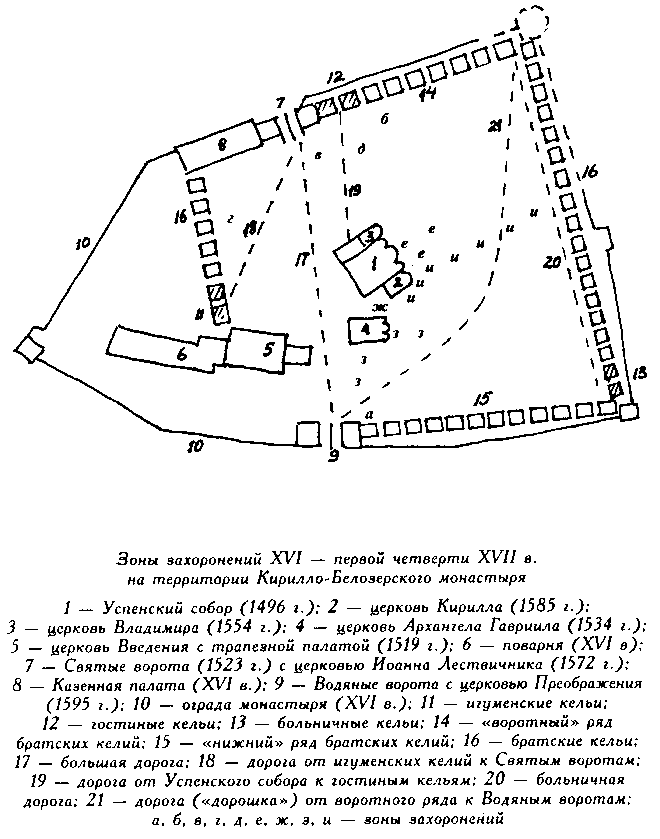
Зоны захоронений XVI - первой четверти XVII в. на территории Кирилла-Белозерского монастыря
1 - Успенский собор (1496 г.); 2 - церковь Кирилла (1585 г.); 3 - церковь Владимира (1554 г.); 4 - церковь Архангела Гавриила (1534 г.); 5 - церковь Введения с трапезной палатой (1519 г.); 6 - поварня (XVI в); 7 - Святые ворота (1523 г.) с церковью Иоанна Лествичника (1572 г.); 8 - Казенная палата (XVI в.): 9 - Водяные ворота с церковью Преображения (1595 г.); 10 - ограда монастыря (XVI в.); 11 - игуменские кельи; 12 - гостиные кельи; 13 - больничные кельи; 14 - "воротный" ряд братских келий; 15 - "нижний" ряд братских келий; 16 - братские кельи; 17 - большая дорога; 18 - дорога от игуменских келий к Святым воротам; 19 - дорога от Успенского собора к гостиным кельям; 20 - больничная дорога; 21 - дорога ("дорошка") от воротного ряда к Водяным воротам; а, б, в, г, д, е, ж, а, и - зоны захоронений
б) против келий в воротном ряду (Пахомий Каргополец, Илларион Конанов);
в) против Святых ворот, между большой дорогой и дорогой от северной паперти собора к гостиным кельям - "подле дороги, на правой стороне с приходу от соборныя церкви, против болших святых ворот" (Ошушков Михаил, Раков Данило);
г) возле дороги от игуменских келий к большим воротам "против Христофоровской кельи" (Серапион Вокшарин, Федор Вокшарин);
д) у гостиных келий, против и вдоль дороги от северных дверей паперти Успенского собора (Акинфиев Григорий Петрович, земской судья Лукьянов Тимофей Старко, дьяк Памфил с Короткого, крестьянин с Волока Словенского Турыгин Павел Малышка);
е) за алтарем Успенского собора - "большой церкви" "близко", "неблизко", "недалеко от большой церкви к нижнему ряду" (старцы Аркадий, Афанасий Бабоедов, Геласий Трясисолома, Епевферий Братцев, Иов Плушка, Христофор Фоминский, а также князья Нащокины - Иван, Михаил, Венедикт, Шереметев Никита Васильевич);
ж) у южных дверей Успенского собора, рядом с гробом преподобного Кирилла (Александр и Иона Третьяковы);
з) за алтарем церкви Архангела Гавриила - за алтарем (Варлаам Яишница, Цыплятевы Евфимий и Евфимий, Зиновий Булгаков, Иоасаф Хабаров, кирилловские игумены Кирилл II и Серапион Травин), "с полуденной стороны близ алтаря под горой" (Варлаам Шекурин, Феоктист Колединский), "от орхангела от большой дороги вниз" (Савва Устюжанин), за алтарем "против своей кельи" (Леонид Ширшов, Никодим Брутков);
и) за алтарем церкви преподобного Кирилла - под алтарем (Феодорит Умный), за алтарем (Андреан Квашнин, Савватий Юшков, Иван Чихачев, Филипп Задубровский, кирилловский игумен), за алтарем, в ногах у старца Елеоуферья Братцева, похороненного за алтарем Успенского собора (Мисаил Кривой Клобук), за алтарем "блиско подле стену" (Афанасий Чермный, Иринарх Вязмитин), за алтарем подле дороги (Вассиан Плещнев "позади могилы Ивана Чихачева"), за алтарем подле дороги "идучи в угол к кельям воротного ряду" (Иоасаф Луженый, Петр, священник, белозерец), за алтарем "за дорошкою" (Истленьев Никита Иванович, старец Евфимий, бывший игумен Ферапонтова монастыря), за алтарем "неблизко, подле больничной дороги" (старец Иоанникий Осокин, келарь Ферапонтова монастыря).
Как видим, наиболее плотно захоронения кирилловских старцев и игуменов располагались за алтарями Успенского собора, церкви Архангела Гавриила и более всего за церковью Кирилла Белозерского.
Здесь же, в полосе алтаря церкви Кирилла, но на самом дальнем из приводимых перечнем расстояний находятся могилы ферапонтовских старцев.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Никольский Н. К. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство до второй четверти XVII века (1397-1625). Т. 1. Вып. 1. СПб 1897 С. XLV-LVIII.
2 Там же. С. L, LUI.
3 Там же. С. LIV.
4 Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской церкви. СПб., 1877. Стлб. 82.
5 РИБ. Т. 32. Архив П. М. Строева. Т. 1. Пг., 1915. Стлб. 595-597.
6 Никольский Н. К. Указ. соч. С. 37.
7 РНБ. QI. 416. Л. 31.
8 Никольский Н. К. Указ. соч. С. LIV, LXXXVI, LXXXVII.
9 Опись строений и имущества Кирилло-Белозерского монастыря 1601 года (Составители 3. В. Дмитриева и M. H. Шаромазов). СПб. 1998. С. 220.
Приложение
ИМЕННОЙ И ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
ЗАХОРОНЕНИЙ В КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКОМ МОНАСТЫРЕ
В XVI - ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVII ВЕКА
Книга Н. К. Никольского "Кирилла-Белозерский монастырь и его устройство до второй четверти XVII века (1397-1625)" (1. 1. Вып. 1. СПб., 1897) давно стала библиографической редкостью. Поэтому считаем необходимым повторить сведения, приведенные в этой книге, в виде указателя. После каждого имени даны в скобках ссылки на страницы книги: арабскими цифрами - страницы основного текста, латинскими - страницы приложения (как у автора). Знак f заменяет слово "скончался". Все имена даются в транскрипции (или транскрипциях) автора.
Церковь Владимира
Воротынский Александр Иванович, князь, в иночестве Арсений, f 6 февраля 1564 г. Как видно из вкладной книги, тело его привезли в монастырь позже (XLIX, LU, LVIII, LXIX).
Воротынский Алексей Иванович, князь, сын князя Ивана Михайловича Воротынского, f 20 июня 1642 г. (LVIII).
Воротынский Владимир Иванович, князь, f 27 сентября 1553 г. (XLIX, LII, LVIII, LXVIII).
Воротынский Иван Михайлович, князь, государев боярин, "во иноцех" схимник Иона, t 8 января 1627 г. (LVIII, LXXXII, LXXXIII, LXXXIX).
Воротынский Логин Михайлович, князь, в иночестве Иона, сын князя Воротынского Михаила Ивановича, f 27 июля 1584 г. в городе Кашине, перезахоронен в Кирилловском монастыре 21 января 1606 г. (LIV, LVIII).
Воротынский Михаил (Михаила) Иванович, князь, f 12 июля 1573 г. в городе Кашине, перезахоронен в Кирилловском монастыре 21 января 1606 г. (LIV, LVIII).
Флавиан (Флавиян), старец, затворник, похоронен "у Владимира в паперти, камень над ним" (LXXVI, LXXXI).
У келий
Акинфиев Герасим, подьячий с. Шухтовец (217, LI, LIV).
Аммон Навечин, диакон, похоронен против своей кельи у старца Евстафия в головах (LV).
Геласий (Галасий, Галасиа) Межников, инок, в миру Межников Григорий, каргополец, пострижен в 1576/77 г., похоронен "близко большой дороги от нижнего ряду келей (от архан.)" (218, XLIX, LUI).
Евстафий (Еоустафий), похоронен "рядом с дьяконом Аммоном Навечиным" (LV).
Иларион Конанов, старец, келарь, f около 1615 г., "его келья в воротном ряду, против нее лежит старец Пахомей Каргополец" (L, LUI, LXXIX).
Ошушков Михаил, похоронен "подле дороги, на правой стороне с приходу от соборныя церкви, против болших святых ворот, камень над ним серой широк, не подписан, на древяном обрубе" (LV).
Пахомий Зиновьев, старец, каргополец, в миру Павел Зиновьев сын, вкладчик - 1573/74 г., похоронен "против кельи, где жил старец Иларион Конанов в воротном ряду" (L, LUI).
Раков Данила, похоронен у дороги - "лежит тут ж за Михаилом [Ошушковым. - М. С.] промеж ими две могилы, камень над ним белой, подписан" (LV).
Серапион Вокшарин, старец, XVI в., похоронен вместе с Федором Вокшариным "против Христофоровские кельи возле дорогу, что от игуменские кельи к большим воротам" (217, L, LUI, LXVI).
Федор (Феодор) Вокшарин, старец, XVI в., похоронен вместе с Серапионом Вокшариным "против Христофоровской кельи возле дорогу, что от игуменские кельи к большим воротам" (217, L, LUI).
У гостиных келий
Акинфиев Григорий Петрович, похоронен "подле дорогу от большой церкви от сиверных дверей от паперти к гостиной келье" (XIV).
Лукьянов Тимофей Старко, выборный голова, земский судья, упоминается в 1554/55 г., вкладчик, f 9 июля 1583 г., похоронен "против гостины кельи" (LI, LIV).
Памфил (Панфил) с Короткого, дьяк, похоронен рядом с Турыгиным Малышкой "против гостины кельи блиско Старка Лукьянова" (L-LI, LIV).
Турыгин Павел Малышка, крестьянин с Волока Словенского, вкладчик, похоронен рядом с Панфилом с Короткого "против гостины кельи блиско Старка Лукьянова" (L, LIV).
В паперти Успенского собора
Левая сторона
Серапион Сицкой, старец, в миру князь Сицкий Семен Федорович, f 7 марта 1554 г., похоронен "у большой церкви в передней паперти на левой стороне от церковных дверей, первой камень, подписан" (47, XLVIII, LU, LIV, LVII, LXVIII)
Тучков Василий Михайлович, вкладчик, похоронен "в передней паперти на левой стороне подле Шереметевых, первой камень с краю, не подписан" (93, LI, LV).
Феодосии Прозоровский, инок, в миру князь Прозоровский Федор Андреевич, f до июля 1568 г., похоронен "у большой церкви в передней паперти на левой стороне, камень на нем подписан" (XLVIII, LU, LVII).
Агафья Кайбалова, старица, княгиня, царица царевича Михаила Кайбулича, дочь Ивана Васильевича Большого Шереметева, дала в f 1611 г. на оклад иконы Богоматери "ожерелье женское жемчюжное низано, и от того ожерелья взяты 5 пугвиц златы с ыскрами, а у них 5 зерн жемчюгу бурминскаго, да она же дала 4 зерна жемчюжных больших бурминских, да с ожерелья ссыпано жемчюгу 38 золотников с ползолотником; да к Пречистой же Богородице на рясы пошло жемчюгу, что ссыпан с ожерелья княгини Агафьи 30 золотников; 27 сентября 613 г. дала на панихиду 10 алтын, похоронена в Успенском соборе: "Иван Васильевич Большой во иноцех Иона да сын ево Еремей Иванович, да дочь ево княгиня Кайбалова инокиня Агафья... все Шереметевы лежат в паперте по левую сторону дверей" (LV, LVII, CII-CIII, CV, CVI).
Шереметев Григорий Васильевич, "все Шереметевы лежат в паперте по левую сторону дверей" (XLVII, LI, LVII).
Шереметев Иван Васильевич Меньшой, убит 7 февраля 1577 г. при осаде Ревеля, похоронен в Кириллове монастыре по его воле, вкладчик - дано сельцо Елгозино в 1570/71 г. за право погребения: "Иван Васильевич Меньшой Шереметев да сын ево Федор Иванович Шереметев да сын Федоров Алексей Федорович Шереметев ... все Шереметевы лежат в паперте по левую сторону дверей" (XLVII, LI, LV, LVII).
Шереметев Иеремий (Еремей) Иванович, сын Шереметева Ивана Васильевича Большого, f в 1568/69 г., похоронен согласно с желанием отца в Кириллове монастыре рядом с отцом и сестрой (XLVII, LI, LVII).
Шереметев Иона, старец, в миру Иван Васильевич Большой Шереметев, боярин, f 27 мая 1577 г., вкладчик - в 1568/69 г. вложил сельцо Шилбутово на захоронение сына Еремея и "корм по нему" (9, XLVI, XLVII, XLIX, LI, LV, LVII, LXXI).
Шереметев Феодосии, инок, в миру Шереметев Феодор Иванович, боярин, сын Шереметева Ивана Васильевича Меньшого, вкладчик - икона Одигитрии в Успенском соборе, в 1642 г. дал 328 рублей 16 копеек на роспись церкви Кирилла, похоронен "у соборной церкви в передней паперти на левой стороне меж сына своего Алексея и жены своей Ефросиний, камень над ним бел подписан" (92, 95, 120, 151. LV, LVI, LVII, CIV).
Шереметева Евфросиния (Ефросиния), инокиня, жена Феодора Ивановича Шереметева, похоронена "в передней паперти идучи в церковь на левой стороне, над ней камень бел, подписан", "да Федора Ивановича Шереметева семья инока Ефросиния, над нею камень подписан. Все Шереметевы лежат в паперте по левую сторону дверей" 1642 г. (LV, LVI, LVII).
Шереметев Алексей Федорович, сын Федора Ивановича Шереметева, внук Ивана Васильевича Меньшого Шереметева, похоронен "в передней паперти на левой стороне подле деда своего Ивана Меньшого" (LV, LVI, LVII).
Шипулин Исакий Никифоров сын, похоронен вместе с отцом Шипулиным Никифором Ивановичем "у Успенья Пречистые в паперти на левой стороне, камень подписан" (LV, LVII).
Шипулин Никифор Иванович, дьяк, похоронен вместе с сыном Исакием, "лежат в паперте на другой стороне (направо от дверей, от Шереметевых), камень над ним подписан" (92, LVII).
Правая сторона
Алексей, строитель (апрель 1520 г.), игумен Кирилле-Белозерского монастыря (1520-1525 гг.), епископ Вологодский и Велико-пермский (9 апреля 1525-1543 гг.), освящал в 1534 г. церкви в Кирилло-Белозерском монастыре, похоронен вместе с рязанским владыкой Касьяном и крутицким владыкой Матфеем в паперти Успенского собора на правой стороне у передних дверей (28, 29, XLVI, LVI).
Иов (Иев) Шуйский, инок, в миру князь Шуйский Иван Петрович, f 10 апреля 1589 г., задушен дымом в Белозерске или Кириллове монастыре князем Иваном Турениным, похоронен "у большой церкви в передней паперти на правой стороне" (XLVII, LI, LIV, LVII, LXXII).
Кассиан, епископ Рязанский (1551-1554 гг.), в начале 1552 г. был лишен епархии и сослан в Кирилле-Белозерский монастырь, f 21 октября 1556 г., похоронен рядом "с вологодским епископом Алексеем и крутицким владыкой Матфеем в паперти Успения Богородицы на правой стороне у передних дверей" (XLVI, LVI, LXVIII).
Кубенский Михаил Иванович, князь, окольничий с 1522/23 г., боярин с 1525/26 г., дворецкий, вкладчик, 16 июня 1548 г. по его духовной в Кириллов монастырь было передано село Куликово, f в 1549/50 г., похоронен в Успенском соборе: "Подле кн. Дмитрея [Дм. Фед. Палецкого. - М. С.] лежит князь Михаиле Кубенской, камень на нем подписан (в паперти Успенского собора с правой стороны под лавкой)" (48, XLVI, LVI).
Матфей, игумен Кирилле-Белозерского монастыря, в январе 1559 г. хиротонисан в епископа Крутицкого, затем - епископ Сарский и Подонский, в 1564 г. был удален с епархии в Кириллов монастырь, похоронен "вместе с вологодским епископом Алексеем, рязанским владыкой Касьяном в паперти Успения Богородицы на правой стороне у передних дверей" (33, XLVI, LVI, LXX).
Палецкий Боголеп, старец, князь Палецкий Борис Дмитриевич, насильно пострижен в Кириллов монастырь по приказанию Ивана Грозного, f в мае-июне 1608 г., т. к. в июле 1608 г. "по старце Боголепе Палецком дано на сорокоуст 20 алт.", похоронен у "большой церкви в передней паперти на правой стороне подле князя Ивана Петровича Шуйского" ("лежит, видимо, по порядку за князьями Дмитрием Федоровичем Палецким и Михаилом Кубенским в паперти Успенского собора на правой стороне под лавкой") (94, LI, LIV, LVII, LXXVI).
Палецкий (Палецкой) Дионисий, инок, в миру князь Палецкий Дмитрий Феодорович, отец князя Василия Дмитриевича
Палецкого, пожалован в бояре в 1546/47 г., сделал вклад в монастырь при игумене Варлааме в 1559/60 г., f 12 сентября 1560 г., похоронен рядом с сыном в паперти Успенского собора, "камени на нем нет" (XLVI, LVI).
Палецкий (Палецкой) Василий Дмитриевич, князь, сын князя Дмитрия Феодоровича Палецкого, похоронен "в паперти на правой же стороне под лавкой", "камень на нем подписан" (LXVI, LVI).
У северных дверей
Афанасий, в миру князь Палецкий, игумен Кирилле-Белозерского монастыря (1539-1551 гг.), архиепископ Суздальский (18 июня 1551 -1564 гг.), архиепископ Полоцкий (11 августа 1566-1568 гг.), прибыл на покой в Кирилло-Белозерский монастырь 17 мая 1568 г., похоронен рядом с архиепископом Казанским Козмой "у большой церкви Успения Пресвятой Богородицы в паперти у полуношных дверей" (33, 31, 42, 106, 108, 118, 175, 177, 181, XLI, XLVI, XLVIII, LVI, LXX).
Косма (Козма), игумен Кирилло-Белозерского монастыря (1572-1581 гг.), архиепископ Казанский (1581-?), похоронен "рядом с полоцким архиепископом Афанасием "у большой церкви Успения Пречистой Богородицы в паперти у полунощных дверей" (30, 32, 38, 60, XLV, LVI, LXXIII).
За алтарем Успенского собора
Аркадий, старец, похоронен "у большой церкви за алтарем близко окна, против горнего места камень" (LV).
Афанасий Бабоедов, старец, похоронен "за алтарем Успения Богородицы неблизко, камень дикой подписан" (LVI).
Геласий (Галасей, Геласия) Трясисолома, соборный старец, в миру Трясисолома Гавриил Алексеевич, псковитянин, московский жилец, в 1579/80 г. вложил 12 минейных икон в церковь Кирилла, похоронен "недалеко от большой церкви от Ивана от Плушка к нижнему ряду" (163, XLIX, LUI).
Елецкий Дмитрий Петрович, князь, окольничий с 1583/84 г., f в 1585/86 г., похоронен "у большой церкви за олтарем близко Кемских князей" (XLVIII, LII).
Елевферий (Елеуферей) Братцов, соборный старец, казначей (1581-1582 гг.), келарь (1593-1603 гг.), похоронен "у большой церкви за олтарем подле старца Христофора Фоминского" (158, 163, LIV, LV).
Иов Плушка, старец, в миру Плушка Игнатий, вкладчик, f 6 июня не ранее 1561-1563 гг., похоронен недалеко от "большой церкви за олтарем" (L, LUI).
Кемский Семен Иванович, князь, f не позже декабря 1567 г., похоронен "у большой церкви неблизко олтаря" (XLVII, LII).
Нащокин Иван Иванович, князь, похоронен "у большой церкви неблизко алтаря" (XLVII, LII).
Нащокин (Нащекин) Михаил, князь, похоронен "у большой церкви неблизко алтаря" (XLVII, LU).
Нащокин Венедикт (?), князь, похоронен "у большой церкви неблизко алтаря" (LII).
Христофор Фоминской, старец, f в конце XV в., похоронен "у большой церкви за олтарем" (L, LUI, LIV, LXXIV).
Шереметев Никита Васильевич, похоронен "за олтарем у большие церкви" (XVII, LI, LVI).
У южных дверей Успенского собора, рядом с гробом преп. Кирилла
Александр Третьяков, инок, в миру Третьяков Алексей Фомич, внук старца Ионы Третьякова, вкладчик - вложил местный большой образ преп. Кирилла в деянии, похоронен "у большой церкви у полуденных дверей, против чюдотворца, подле деда своего старца Ионы Третьякова" (116, XLVIII, LIV).
Иона Третьяков, старец, дед Алексея Фомича Третьякова, между 1539-1551 гг. пожертвовал вместе с сыном Фомою в Кириллов монастырь колокол, f не позже 1568 г., похоронен "у большой церкви у полуденных дверей" (175, XLVIII, LII).
У церкви преподобного Кирилла
Андреан (Андреян) Квашнин, инок, в миру Квашнин Андрей Александрович, вкладчик, 26 августа до 1561-1563 гг., похоронен "за церковью чюдотворца Кирила за алтарем" (93, XLIX, LII).
Афанасий Чермный, "лежит рядом со старцем Иринархом Вязмятиным" (LV).
Вассиан Плещнев, "лежит за алтарем Кирилла чюдотворца позади могилы Ивана Чихачева, камень на нем сер плоек, не подписан, подле дорогу" (LVI).
Евфимий, старец, бывший игумен Ферапонтова монастыря (1580-е гг.), похоронен "за церковью чюдотворца Кирила за олтарем подле Никиту Истлениева" (37, L, LUI).
Иоанникий (Иоаникей) Осокин, старец, келарь Ферапонтова монастыря, вложил в 1591/92 г. воротные часы, f около июля 1608 г., похоронен "за олтарем у чудотворца Кирила неблизко, подле больничные дороги" (LIV, LXXVI, LXXXVI).
Иоасаф Луженой, соборный старец, вложил в 1609-1611 гг. 2 образа в Успенский собор, 10 больших пядниц, 5 образов в церковь Кирилла и др., похоронен "у чюдотворца Кирила за олтарем неблизко, подле Петра священника белозерца, подле дорогу идучи в угол к кельям воротного ряду" (37, 95, 114, 130, 155, 159, 160, 218, LV, CI).
Иринарх Вязмитин (Вязмятин), старец, f не позже октября 1611 г., похоронен "за олтарем у чюдотворца блиско, подле стену подле старца Афонасья Чермного" (LV, LXXVII).
Истленьев (Истлениев) Никита Иванович, похоронен "за церковью чюдотворца за олтарем за дорошкою" (XLIX, L, LUI).
Мисаил (Мисайла) Кривой Клобук, старец, f в 1625 г., похоронен за "олтарем чюдотворца Кирила у старца Елеоуферья Братцова в ногах" (LV, LXXXIII).
Петр, священник, белозерец, похоронен за алтарем церкви Кирилла рядом с Иоасафом Луженым (218, LV).
Савватий (Саватея) Юшков, старец, похоронен "за олтарем Кирила чюдотворца подле Ивана Чихачева, камень на нем на подрубе сер, подписан" (LVI).
Феодорит Умной, старец, в миру Умной-Колычев Феодор Иванович, вкладчик - вложил икону Одигитрии в церковь Кирилла, похоронен "под алтарем чюдотворца Кирила" (93, 160, 161,XLIX, LII).
Филипп Задубровский (Задубровской), игумен Кирилло-Белозерского монастыря (1625-1628 гг.), похоронен "за олтарем чюдотворца Кирила, камень над ним сер, подписан" (LV).
Чихачев Иван - похоронен "за олтарем чюдотворца Кирила" (LVI).
У церкви Архангела Гавриила
Варлаам (Варлам) Шекурин, старец (1652-1665 гг.), "лежит подле старца Колединсково, камень над ним сер с ыскрой подписан с полуденной стороны близ алтаря Архангела Гаврила под горой" (232, 251, LVI).
Варлаам Яишница, игумен московского Богоявленского монастыря в 1554-1555 гг., постриженник Кирилле-Белозерского монастыря (4 апреля 1534 г.), "лежит за олтарем церкви Архангела Гавриила" (XLIX, LUI).
Евфимий (Еоуфимей) Цыплятев, старец, в миру Елеазар (Елизарей) Цыплятев, f в 1568 г., похоронен вместе с сыном, старцем Евфимием (в миру Иваном), "у церкви архангела за алтарем" (48, 93, XLVIII, LII).
Евфимий (Еоуфимей) Цыплятев, старец, в миру Иван Цыплятев, сын Елеазара Цыплятева, похоронен вместе с отцом, старцем Евфимием (в миру Елеаэаром), "у церкви архангела за алтарем" (XLVIII, LII).
Зиновий Булгаков, соборный старец, похоронен "у архангела за олтарем" (94, L, LUI).
Иоасаф Хабаров, старец, в миру Иван Иванович Хабаров, с 1546/47 г. дворецкий, боярин, вкладчик - дал 1000 рублей на раку преп. Кирилла, образ Богородицы в церкви Кирилла, f B 1582 г., похоронен за церковью Архангела Гавриила за алтарем (38, 43, 46, 150, 156, XLVII, LU, LXXII, CIII).
Кирилл II, игумен Кирилле-Белозерского монастыря (1564- 1572 гг.), похоронен "за церковью архангела за олтарем" (38, 40, 41, 47, 96, 175, XLIX, LUI, LXXI).
Леонид Ширшов, старец, в миру Ширшов Семейка, пострижен в июне 1568 г., f около июля 1617 г., похоронен "у архангела за олтарем против своей кельи, против старца своего Никодима Брут-кова" (35, 36, 38, 39, 68, 71, 72, 75, 77, 106, 149, 153, 157, 158, 163, 180, 209, 210, 212, 213, 215, 236, LIV).
Никодим Брутков (Брудков), старец, строитель, похоронен "за олтарем за архангелом против своей кельи" (L, LUI, LIV).
Савва (Сава) Устюжанин, похоронен "от архангела от большой дороги вниз близко Щукина отца" (218, L, LUI).
Серапион Травин, игумен (1628-1631 гг.), похоронен "за олтарем архангела, камень над ним сер, подписан" (LV).
Феоктист Колединский, старец, похоронен "рядом с старцем Варламом Шекуриным" (LVI).
А. E. Виденеева
БОЛЬШОЙ КОЛОКОЛ
КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ В XVIII СТОЛЕТИИ
В любом колокольном наборе главенствующая роль, безусловно, принадлежит самому большому колоколу, поскольку именно он задает основной тон в звоне и определяет мощность и силу звучания всего колокольного ансамбля. Более того, для храмов и монастырей вес и размеры больших колоколов всегда являлись проявлением представительности, а также служили своеобразным показателем уровня материального благосостояния. Не случайно еще со средневековья в России наблюдалась тенденция к неуклонному увеличению веса колоколов, ставшая особенно явной в связи с наступлением технического прогресса.
В XVIII столетии в Кирилле-Белозерском монастыре дважды производилась замена большого колокола, новые колокола отливались в 1738 и 1755 годах. В настоящей работе рассматриваются некоторые обстоятельства, сопровождавшие их появление.
В 1998 году в журнале "Чело" была опубликована статья И. А. Смирнова, посвященная характеристике самого большого колокола Кирилло-Белозерского монастыря. Из событий, относящихся к XVIII веку, автор отмечает строительство в монастыре в 1750-х годах новой пятиярусной колокольни и одновременную отливку нового большого колокола взамен старого, разбившегося при звоне. В своей работе И. А. Смирнов цитирует надпись, имевшуюся на этом колоколе, из которой следует, что он был отлит московским мастером Иваном Гавриловым в 1755 году. Автор приводит основные параметры нового колокола: длина окружности нижнего края - 9,04 метра, высота от нижнего края до уровня "ушей" - 2,17 метра, нижний диаметр - 2,84 метра, наиболее вероятный вес колокола - около 1200 пудов, а также указывает, что в описаниях XIX - начала XX века большой кирилловский колокол назывался "Моторой"1.
В начале 1730-х годов на большой колокольне Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря находилось шестнадцать колоколов. По описям 1732 и 1734 годов, в этом наборе имелось три тяжелых колокола и тринадцать средних и малых. Самый большой из них назывался Воскресенским2.
7 августа 1734 года, во время служения в монастырском соборе благодарственного молебна о русских военных победах в Польше, большой колокол "от звону" разбился. Роковой удар был так силен, что из одного края колокола выбило большой кусок меди весом в 16 пудов 28 фунтов3. Получивший столь значительное повреждение Воскресенский колокол уже не мог звучать ("за тем повреждением звону от того колокола против прежняго не происходит"), однако до 1738 года он не был снят с колокольни, а находился на своем прежнем месте. Отбитый от него осколок был передан на сохранение в монастырскую Казенную службу4.
Долго оставаться без большого колокола монастырь не мог, и, как свидетельствуют документы, монастырские власти сразу же начали хлопотать о его переливке. Главным инициатором замены разбитого колокола явился кирилловский архимандрит Вавила. Примечательно, что он был определен в настоятели Кирилле-Белозерского монастыря в декабре 1734 года, то есть по прошествии всего лишь четырех месяцев после того, как обитель лишилась своего самого тяжелого колокола5. Известен указ архимандрита Вавилы, адресованный московскому стряпчему Семену Суровцеву, о получении в Москве у колокольных мастеров сведений, каковы могут быть затраты при отливке колокола весом в тысячу пудов. "Реестр к перелитию тысячнаго колокола...", специально по этому случаю составленный литейщиком Гаврилой Лукьяновым сыном Смирновым, был представлен в Кирилло-Белозерский монастырь в середине января, 1736 года. Наряду с подробным перечислением строительных материалов, припасов и инструментов, в этом документе, в частности, была указана расценка работы мастера - по 16 алтын 4 деньги с, каждого пуда веса отлитого колокола. Следует отметить, что к тому времени Гаврила Смирнов уже успел зарекомендовать себя как достаточно опытный мастер. В частности, за его плечами была отливка, больших колоколов весом в тысячу и в семьсот пудов для Киево-Печерского монастыря6.
Очередные известия, связанные с переливкой колокола Кирилло-Белозерского монастыря, относятся к марту 1738 года. 23 марта датирован приговор кирилловской братии о замене большого разбитого колокола. Было решено, что переливать колокол следует в монастыре, а средства на это весьма дорогое предприятие обеспечить "от подаяния христолюбивцев" посредством объявления целевого сбора добровольных пожертвований. Особо отмечалось, что если требующуюся сумму собрать к положенному сроку не удастся, то недостающую часть можно будет на время "взять заимообразно" из денег, пожертвованных императрицей Анной Иоанновной на сооружение в обители новых каменных келий. Определившись с финансовой стороной проекта, братия избрала ответственных лиц, постановив: "При оной вышеписанного колокола переделке быть у приходу и росходу денег житенному монаху Иоакиму Афонину, а у присмотру при той переделке колокола монаху ж Варнаве Вологжанину да дворецкому Роману Волоцкому"7.
Вероятно, прямым следствием братского приговора явилось "до-ношение" архимандрита Вавилы вологодскому епископу Амвросию о разрешении перелить большой монастырский колокол. Владыка был не против, но, прежде чем официально заявить об этом по установленному порядку, он был обязан заручиться согласием Синода. В Синоде предложение заменить большой кирилловский колокол было встречено благосклонно, решение гласило: "перелить дозволить". Синодальный указ был получен в Кирилле-Белозерском монастыре 7 июля 1738 года8.
Тем временем на месте уже полным ходом разворачивались подготовительные работы. В мае 1738 года монастырские власти заключили контракт на переливку большого колокола с московским колокольным мастером Михаилом Ивановым сыном Моториным и его подмастерьем Гаврилой Лукьяновым сыном Смирновым. За работу рядили с пуда по сорок копеек. Вес будущего колокола определялся приблизительно в восемьсот пудов. Материал, из которого он должен был отливаться, равно как и все необходимые инструменты и оборудование, обеспечивал монастырь. Мастера с подмастерьем и тремя учениками монастырь обязался доставить на своих подводах из Москвы в Кириллов, а после окончания работ - отправить назад. Кроме того, на весь период пребывания в монастыре обитель давала им кров и стол. Мастеровых людей - кузнецов, плотников, столяров и печников, чье участие было необходимо на различных стадиях процесса изготовления колокола, предоставлял монастырь. В контракте особо оговаривалось, что если первая отливка по какой-либо причине выйдет неудачной, "то в другой раз перелить ему же, мастеру Моторину, и с подмастерьем Смирным за те ж взятые денги без всякого отрицания". В задаток колокольному мастеру было дано сто рублей. Остальные деньги литейщики должны были получить по окончании работы9.
В июле 1738 года, после того как от высших церковных властей было Получено разрешение на переливку, поврежденный колокол был спущен с колокольни и разбит. Получилось 28 больших кусков весом от 10 до 54 пудов, да "мелочи", то есть небольших осколков, набралось на 55 пудов. Суммарный вес всех фрагментов колокола составил 751 пуд 17 фунтов. Правда, вряд ли при этом был учтен отколовшийся в 1734 году шестнадцатипудовый кусок10. В целом же можно утверждать, что вес разбитого колокола был не меньше 750 пудов. Это, к слову, подтверждается и косвенными данными. Как следует из расчетов Гаврилы Смирнова, для того чтобы при переливке довести вес нового колокола до тысячи пудов, "в прибавку" к разбитому старому потребовалось бы 200 пудов меди и 50 пудов олова, что вместе и составило бы недостающие 250 пудов11.
Монастырские власти предпочли, сэкономив на покупке нового металла, обойтись старыми запасами. Для переливки были отобраны четыре колокола, по всей вероятности имевшие повреждения: два с большой колокольни весом в 53 пуда 20 фунтов и 8 пудов 17 фунтов, двенадцатипудовый колокол с монастырской Евфимьевской колокольни и колокол весом в 11 пудов 32 фунта, взятый из приписной к Кириллову монастырю Нило-Сорской пустыни. К ним добавили медную шестипудовую пушку и 20 пудов 19 фунтов "покупной и вкладной" новой красной меди. Так и набралось около 112 пудов добавочного металла. Общий вес колокольной бронзы, подготовленной для нового колокола, равнялся 863 пудам 29 фунтам12.
Отливка большого колокола была произведена в октябре-ноябре 1738 года. Судя по документам, его вес составил около 850 пудов13. Нетрудно подсчитать, что колокольные мастера Михаил Моторин и Гаврила Смирнов в соответствии с договором получили за него 340 рублей. Монастырь же с этого времени стал владельцем нового большого колокола весом более тринадцати с половиной тонн14.
К середине 1750-х годов вновь назрела необходимость отливки для Кирилло-Белозерского монастыря нового большого колокола, так как тот, что был изготовлен в 1738 году, оказался разбитым. Для монастыря это была большая беда, поскольку из-за этого, как говорили тогда, "оная святая обитель звоном доволнаго украшения не имеет"15.
Что же произошло? В первой половине 1750-х годов на колоколе от неосторожного удара возникла трещина. Вероятно, поначалу она была небольшой, поскольку даже выдвигались предложения запаять или заплавить ее. Между тем к весне 1755 года длина трещины, которая пересекла весь колокол от верхнего до нижнего края, достигла двух аршин с четвертью. Оставался единственный выход - переплавка16.
21 марта 1755 года архимандрит Вавила и старшая братия в составе наместника иеромонаха Димитрия, казначея монаха Евфимия, уставщика иеродиакона Киприана, житенного монаха Пахомия, крепостного монаха Аврама, конюшенного монаха Ионы, а также иеромонаха Антония и иеродиакона Александра направили вологодскому епископу Серапиону прошение о дозволении перелить треснувший колокол. Владыка дал свое благословение, приказав отлить новый монастырский колокол весом в тысячу пудов с тем, чтобы он "подлинно уж был болшой"17.
Колокольного мастера, способного выполнить эту нелегкую задачу, искали в Москве. К тому времени Михаил Иванов сын Моторин, к которому монастырь обращался семнадцать лет назад, скончался. Однако дело литья колоколов продолжила его вдова, колокольных дел "цехместерша" Катерина Моторика. Монастырь счел возможным обратиться к ней, и она согласилась послать в обитель одного из своих подмастерьев. По иронии судьбы выбор пал на Ивана Гаврилова сына Смирнова. Он являлся сыном Гаврилы Смирнова, который в свое время принимал участие в отливке большого колокола для Кирилло-Белозерского монастыря18. Таким образом, сыну было суждено перелить разбитый колокол своего отца.
Долго шел торг о расценках за работу колокольного мастера. В Москве интересы монастыря отстаивал монастырский стряпчий Кирилл Лошкарев, которому было поручено вести переговоры с Катериной Моторикой. Соглашения удалось достичь в июле 1755 года. Причем все решилось в считанные дни: еще 1 июля Катерина Моторина предлагала цену в 45 копеек с пуда, но уже 5 июля сочла возможным снизить ее до 40 копеек. Не откладывая дело в долгий ящик, уже на следующий день, 6 июля, стряпчий Лошкарев отправил Ивана Смирнова в монастырь для заключения контракта19.
К концу июля 1755 года в Кирилле-Белозерском монастыре были разработаны условия переливки большого колокола, а 23 июля подписан "согласный приговор". Как и в 1738 году, приняли решение, что колокол будет отливаться в монастыре; колокольную бронзу, все необходимые материалы, припасы и инструменты предоставляла обитель; ремесленные работники отбирались из числа монастырских служителей и вотчинных крестьян; колокольного мастера с его помощниками монастырь брал на полное содержание. Вес будущего колокола определялся "в тысящу пуд или чем болше будет"20.
Видимо, тогда же был заключен контракт и с Иваном Гавриловым сыном Смирновым, которому поручалось отлить новый большой колокол "добрым мастерством, с приличным на оном украшением и надписью"21.
Деньги, требующиеся для переливки, по согласию всей братии было решено собрать с вотчинных крестьян, для этого на 20 400 душ, числившихся за монастырем, следовало "расположить" около семисот рублей по неравным долям, с учетом места расположения вотчины. Хотя взимание денег с крестьян растянулось на долгие месяцы, однако производилось целенаправленно и настойчиво. К примеру, в январе 1756 года прапорщик Осип Терентьев, посланный в Угличский уезд, отчитался, что "деньги показанных вотчинных крестьян взысканы все сполна". В соответствии с разнарядкой по 3 копейки с души с 1721 монастырского крестьянина было собрано более 50 рублей22.
Впрочем, монастырь, как и прежде, не отказывался от добровольной помощи состоятельных жертвователей. Организация сбора пожертвований была поручена иеромонаху Дионисию, иеродиакону Иакову и служителю Ивану Канжину. Имеются свидетельства, что в сборе средств непосредственное участие принимал и сам настоятель. Так, в сентябре 1755 года Андрей Егорьевский направил архимандриту Вавиле письмо, в котором благодарил за благословение и сообщал, что в ответ на собственноручное послание настоятеля он "на перелитие к оной святой обители болшаго колокола вкладом по возможности своей послал денег шесть рублев"23.
Для будущего колокола было куплено более трехсот пудов меди и олова.
Как свидетельствовала надпись на новом большом монастырском колоколе, он был отлит в 1755 году24. Поскольку договор с мастером был заключен в середине лета, отливка колокола была произведена между августом и декабрем, скорее всего, как и в прошлый раз, осенью.
К концу зимы 1756 года монастырь произвел окончательный расчет с Иваном Смирновым. К ста рублям, полученным им в задаток, по завершении всех работ были добавлены оставшиеся 400 рублей. Поскольку Иван Смирнов ходил в подмастерьях, из этой суммы он мог рассчитывать только на сто рублей, а остальные деньги причитались его хозяйке, "цехместерше" Катерине Мотори-ной. Впрочем, для нас важнее другое. Если в целом монастырь заплатил 500 рублей, а по договору труд мастера оценивался по 40 копеек с пуда, то новый колокол тянул более чем на 1200 пудов: В документах 1759 года, связанных с подъемом этого колокола указано, что его вес равнялся 1200 пудам25.
По всей видимости, в связи с появлением нового большого колокола в Кирилло-Белозерском монастыре начались работы по перестройке колокольни при Успенском соборе. Контракт на ее сооружение был заключен с каменщиком Спасо-Прилуцкого монастыря Федором Жуковым в 1757 году, а к весне 1759 года строительство приблизилось к завершению26.
В марте 1759 года был подписан договор с вологодским купцом Борисом Федоровым сыном Терентьевым на изготовление и поставку в монастырь канатов, требующихся для подъема колоколов27. Видимо, летом или осенью того же года все колокола, в том числе и самый большой, новоотлитый, заняли свои места на новой колокольне. Почти двадцатитонный колокол, появившийся на свет в 1755 году, оказался гораздо долговечнее своего предшественника - ему было суждено благополучно дожить до советского времени. Но в январе 1932 года этот колокол, наряду с другими кирилловскими колоколами, был разбит и отправлен в переплавку28.
Итак, на протяжении XVIII века в Кирилле-Белозерском монастыре дважды производилась отливка большого колокола. Если колокол 1738 года не протянул и двадцати лет, то колокол 1755 года прожил почти два столетия. По свидетельству современников, мощный голос последнего служил красивой основой монастырского колокольного звона, а сам он являлся гордостью и действительным украшением одного из самых знаменитых северных монастырей.
Символично, что в отливках кирилловских колоколов принимали участие представители двух поколений семьи колокольных мастеров Смирновых. При этом колокол, отлитый сыном, был тяжелее и, как показало время, качественнее, чем колокол, изготовленный отцом.
Важно подчеркнуть, что оба эти колокола оказались связанными с Михаилом Ивановым сыном Моториным. Видимо, не случайно большой колокол Кирилле-Белозерского монастыря получил имя "Моторой"29.
Следует отметить, что оба больших колокола появились в монастыре во время правления одного настоятеля - архимандрита Вавилы (1734-1761 гг.). Более того, именно благодаря ему - хозяину обители и распорядителю монастырской казны - стала возможна их отливка. С первых месяцев своего настоятельства архимандрит Вавила начал предпринимать меры, направленные на замену разбившегося колокола, и спустя четыре года его усилия увенчались успехом. Во второй половине 1750-х годов, за три года до своей кончины, у настоятеля хватило сил совершить еще одну замену - новый большой колокол был поднят на новую монастырскую колокольню. И кто знает, может быть, лучшим памятником долгого настоятельства архимандрита Вавилы явилось упоминание его имени в надписи на большом колоколе Кирилле-Белозерского монастыря.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Смирнов И. А. Большой колокол Кирилло-Белозерского монастыря // Чело. 1998. № 2 (13). С. 14-16.
2 РГАДА. Ф. 1441. Оп. 2. Д. 2144 Л. 344-344 об.
3 Там же. Д. 2289. Л. 1; Д. 2814. Л. 344-344 об.
4 Там же. Д. 3133. Л. 1; Д. 2814. Л. 344.
5 Там же. Д. 2138. Л. 1.
6 Там же. Д. 2289. Л. 1, 3, 5-6.
7 Там же. Д. 2814. Л. 4 об.-5.
8 Там же. Л. 3 об., 10, 11 об.
9 Там же. Л. 6 об.-7 об.
10 Там же. Д. 3133. Л. 1 об.-2 об.
11 Там же. Д. 2289. Л. 6.
12 Там же. Д. 3133. Л. 1об.-3.
13 Там же. Д. 3134. Л.
14 Следует отметить, что по более поздним сведениям, относящимся к середине XVIII века, вес данного колокола определялся приблизительно в шестьсот пудов (РГАДА. Ф. 1441. Оп. 2. Д. 6901. Л. 11).
15 РГАДА. Ф. 1441. Оп. 2. Д. 6901. Л. 18.
16 Там же. Л. 13.
17 Там же. Л. 11-12, 16-16 об.
18 Там же. Л. 18, 33-33 об.; Д. 2814. Л. 6 об.-7 об.
19 Там же. Д. 6901. Л. 33-34.
20 Там же. Л. 18-19; Д. 2814. Л. 4 об.-5.
21 Там же. Д. 6901. Л. 19.
22 Там же. Л. 18 об.-19, 40.
23 Там же. Л. 18 об.-19, 55-55 об.
24 Смирнов И. А. Указ. соч. С. 15.
25 РГАДА. Ф. 1441. Оп. 2. Д. 6901. Л. 37, 56, 80; Д. 7326. Л. 4, 8.
26 Там же. Д. 7326. Л. 1.
27 Там же. Л. 8-9.
28 Смирнов И. А. Указ. соч. С. 15-16.
29 Вперые это предположение было высказано И. А. Смирновым в сентябре 1999 года (К разгадке названия большого колокола // Новая жизнь. 1999. № 105. 14 сентября).
А. Е. Виденеева
О БРАТИИ КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ
В 1732 ГОДУ
В третьем выпуске альманаха "Кириллов" была опубликована статья А. В. Камкина и Е. В. Кубаревой о братии Кирилло-Белозерского монастыря в период, предшествующий секуляризационной реформе 1764 года1. Использование целого комплекса разновременных списков имен кирилловских монахов позволило авторам дать подробную и обстоятельную характеристику состава монашеской общины и проследить изменения, происходившие в ней за время с конца двадцатых до середины шестидесятых годов XVIII столетия.
Обращение к новым источникам дает возможность несколько конкретизировать наши представления о братии Кирилло-Белозерского монастыря. В РГАДА хранится так называемый "перечневой табель" монахов этой обители, датированный началом декабря 1732 года2. На основе данного документа, а также ряда сопутствующих ему источников в настоящей работе рассматривается социальный состав монашеской общины Кирилло-Белозерского монастыря в 1732 году.
Прежде всего необходимо пояснить, при каких обстоятельствах появился на свет указанный перечень имен кирилловских монахов. В сентябре 1732 года Синод опубликовал особое "Прибавление" к Духовному регламенту, дополняющее правила "об устройстве монастырей"3. Вероятно, в связи с этим было решено осуществить очередную перепись монастырских насельников. В начале ноября 1732 года архимандрит Кирилло-Белозерского монастыря Фео-филакт получил указ из Вологодской архиерейской канцелярии, в котором сообщалось о синодальном требовании завести как в самой обители, так и в приписных монастырях "именные книги". Они должны были содержать сведения о монашествующих "с подробным означеньем прозваньев, мест и времени рождения и пострижения"4. Эти книги составлялись на месте, в Кирилловском монастыре, причем некоторые обстоятельства позволяют предположить, что монахи сами предоставляли информацию о себе посредством сдачи в монастырскую канцелярию письменных "сказок" или просто путем устного рассказа. На основе "именных книг" составлялась в трех экземплярах "перечневая табель", в которой информация была представлена в виде таблицы. Согласно установленным правилам, один экземпляр отсылался в Синод, второй предназначался для епархиального архиерея, а третий оставался в монастыре. Оформление "именных книг" и "перечневых табелей" в Кирилло-Белозерском монастыре не потребовало длительного времени, работа над ними началась не ранее 7 ноября 1732 года, а к 7 декабря они уже были готовы5.
"Перечневая табель" монахов Кирилло-Белозерского монастыря | 1732 года содержит интересную и достаточно подробную информацию о насельниках обители. В ней названы монашеские и мирские имена иноков, указаны их социальное происхождение, место рождения и возраст, время и место монашеского пострига, время принятия в братию Кирилло-Белозерского монастыря и виды выполняемых послушаний. Следует отметить, что в табели имеются поздние приписки о переводе, расстрижении или смерти отдельных монахов6.
Значимость данного документа не исчерпывается высокой степенью его информативности. Важно подчеркнуть, что в 1732 году была произведена последняя перепись братии Кирилло-Белозерского монастыря в ее полном составе при максимальном количестве насельников. По подсчетам А. В. Камкина и Е. В. Кубаревой, за десятилетнее правление императрицы Анны Иоанновны братия Кирилло-Белозерского монастыря сократилась более чем в три раза7.
По данным ведомости 1732 года, всего в монастыре насчитывалось 205 монашествующих, в том числе: настоятель и шесть "начальствующих" лиц (наместник, казначей, ризничий, соборный, житенный и конюший); 8 иеромонахов и 7 иеродиаконов; 3 головщика, 5 канархистов и 4 пономаря; 20 "служебных" монахов, занимавших различные должностные посты; 56 рядовых и 34 больничных монаха; 31 посельский монах, отправленный в вотчинные центры; 15 "промысловых" монахов, находящихся на монастырских промыслах и 15 - "московских", то есть проживавших на московском подворье8.
В "перечневой табели" 1732 года содержатся сведения о 192-х насельниках Кирилло-Белозерского монастыря, к числу которых относились настоятель, 13 иеромонахов, 7 иеродиаконов и 171 монах9.
Настоятелем Кирилло-Белозерского монастыря являлся архимандрит Феофилакт, переведенный сюда в 1732 году из Корнилиево-Комельского монастыря. Примечательно, что он возглавил Кирилловский монастырь, один из знатнейших и богатейших на Русском Севере, в сравнительно молодом возрасте, когда ему еще не исполнилось и 45 лет. Настоятельство архимандрита Феофилакта оказалось недолгим: 27 ноября 1733 года за укрывательство в монастыре принятого без документов иеродиакона Нифонта он был лишен должности настоятеля, сана архимандрита, но оставлен в братии. Позднее, будучи прощенным, он вновь возглавил Корнилиевский монастырь10.
Должность наместника Кирилловского монастыря занимал иеродиакон Иерофей, который был еще моложе Феофилакта (в 1732 году ему было чуть больше 30 лет). Иерофей принял монашество в Кирилловском монастыре в двадцатилетнем возрасте, быстро стал правой рукой настоятеля, а в июле 1738 года был произведен в архимандриты и определен в вологодский Спасо-Каменный монастырь11.
Казначеем Кирилло-Белозерской обители был монах Гедеон. Долгое время он состоял здесь монастырским служителем. Затем в 60-летнем возрасте принял монашеский постриг. Через три-четыре года он сумел занять один из высших монастырских должностных постов. Правда, вряд ли монах Гедеон был хорошим казначеем, поскольку, судя по делам монастырского архива, он неоднократно обвинялся в избиении монахов и нанесении им увечий, а также был уличен в краже казенных денег12.
Помимо настоятеля, наместника и казначея, "начальствующее" положение в монастыре занимали ризничий и уставщик соборного храма иеромонах Симон, соборный иеромонах Аввакум, житенный иеродиакон Иоанн и конюший монах Федот. В ведомости о монахах 1732 года их имена указаны среди первых13.
В отдельную группу следует выделить монахов, в обязанность которых входило отправление церковных служб в монастырских храмах. Прежде всего это монашествующие, имеющие священный сан - иеромонахи и иеродиаконы. Как уже отмечалось, в братстве Кирилло-Белозерского монастыря находилось 13 иеромонахов и 7 иеродиаконов. А. В. Камкин и Е. В. Кубарева доказали, что количество священноиноков в Кирилле-Белозерском монастыре в 20-х-60-х годах XVIII века оставалось стабильным, так как монастырские власти прилагали для того немалые усилия14. Действительно, в 1733 году по распоряжению вологодского архиерея в Кирилловский монастырь были определены пять новых насельников, и все пятеро имели священный сан: иеромонахи Илларион, Иоасаф, Варсонофий, Алексей и иеродиакон Иосиф. Хотя переведенные монахи относились скорее к преклонному возрасту: самому молодому из них, иеромонаху Варсонофию, было 57 лет, трем иеромонахам - более 65, а иеродиакону - за семьдесят, все они имели возможность принимать участие в чреде монастырских церковных служб. К отправлению монастырских богослужений также имели отношение монахи, выполнявшие обязанности церковных причетников, а именно: 13 псаломщиков, 5 пономарей, 3 головщика и 2 канонарха15.
К разряду так называемых "служебных" относились монахи, возглавлявшие те или иные хозяйственные службы, иными словами, занимавшие более или менее ответственные должностные посты. К примеру, монах Авраам состоял "у крепостных дел", принимал участие в монастырском делопроизводстве, а возможно, возглавлял деятельность монастырской канцелярии. Несколько монахов отвечали за хранение посуды и съестных припасов: монах Павел был "трапезным", монах Сергий - "чашником", монах Венедикт - "сушиленным". Монах Досифей, будучи "поваренным", присматривал за поварней. "Хлебодары" - монахи Фока, Варсонофий и Иосиф - имели отношение к разделу и раздаче хлеба в соответствии с установленными монашескими "порциями". Отдельные члены братии занимали должности "воротника", "надсмотрщика кузнецов", "оружейника", "огородника" и ряд других16.
Выполнение некоторых послушаний требовало от монахов нахождения за пределами монастыря. Часть братии проживала в московском Афанасьевском монастыре - подворье Кирилло-Белозерского монастыря, а также находилась в подмосковных вотчинах. В обители их называли "московскими жителями". До тридцати монахов в качестве посельских старцев были разосланы по административным центрам обширной монастырской вотчины. Около пятнадцати монахов были заняты на соляных и рыбных промыслах монастыря17 .
Самой многочисленной была категория так называемых "рядовых" монахов, в 1732 году их было более пятидесяти человек. Значительную группу составляли "больничные" монахи, их насчитывалось более тридцати; в основном это были лица преклонного возраста, доживавшие в монастыре на покое. Имеются свидетельства о том, что некоторые из членов братии, находясь в монастыре, не забывали ремесел, когда-то кормивших их в миру. К примеру монахи Иродион Воронежский и Павел Поляков, которые в прошлом были монастырскими портными, и после пострижения продолжали заниматься портняжным делом18.
"Перечневая табель" 1732 года содержит информацию о возрасте монахов, времени их пострижения и сроке пребывания в Кирилло-Белозерском монастыре19. В 1732 году самым молодым являлся двадцатилетний пономарь монах Мартирий Третьяков, вступивший в кирилловское братство в возрасте 17 лет. Старейшими в братстве были два больничных монаха: 96-летний Петр Александров, принявший монашество в возрасте 80 лет в Александро-Свирском монастыре, и 97-летний Измаил Демин, постриженник Кирилло-Бело-зерского монастыря. Как видим, разница в возрасте между самым юным и самым старым иноками составляла 77 лет. Среди "служебных" монахов наиболее молодым был 22-летний Иона Макурин, имевший послушание "будильника", а самый преклонный возраст имел 92-летний "воротник", монах Никандр Грязновский.

В целом основу братии составляли пожилые монахи. Явное численное преобладание имели монахи в возрасте от 41 до 80 лет, их насчитывалось 146 человек. Одиннадцати членам братии было более 80 лет, пятерым - более 90.
Возрастные границы, в пределах которых монахи Кирилло-Белозерского монастыря принимали постриг, были широки - от 13 до 94 лет. Никаких особенных закономерностей здесь не прослеживается. В братстве Кирилловской обители объединялись люди, уходившие от мира как в начале своей жизни, так и на ее закате - предпочтение монашеству в равной мере оказывали и двадцатилетние и семидесятилетние. Самым молодым постриженником Кирилловского монастыря являлся больничный монах Мануил Ульянов, принявший монашество в возрасте тринадцати лет. Шестнадцатилетними ушли из мира монахи Кирилл Копылов и Феодосии Щербаков. Зато монах Никандр Грязнов принял постриг в 90 лет, а монах Измаил Демин вступил в братию Кирилловского монастыря в возрасте 94 лет.

Основная часть братии Кирилло-Белозерского монастыря имела за плечами достаточно солидный опыт монашеской жизни. Более половины насельников являлись монахами на протяжении 10-25 лет. В обители проживало 25 монахов, иноческий "стаж" которых перевалил за четверть века. Наряду с этим, в братстве состояло немало иноков, принявших постриг сравнительно недавно - каждый четвертый принял монашеский постриг не более трех лет назад.
Две трети от общего числа кирилловских насельников (131 человек из 192) являлись постриженниками Кирилло-Белозерского монастыря. Остальные приняли монашество в других монастырях и пустынях, преимущественно северных. Так, шестеро человек постриглись в Александро-Свирском монастыре, двое - в Новгородском Юрьевском, еще двое - в Ферапонтовском. Среди кирилловской братии были постриженники Троице-Сергиевской лавры и Московского Новоспасского монастыря, Вологодского Спасо-При-луцкого и Переславского Троице-Данилова монастырей, Московского Афанасьевского монастыря на Кирилловском подворье и Анзерс-кого скита, причисленного к Соловецкому монастырю. Для ряда кирилловских монахов первыми обителями стали небольшие монастыри и пустыни.

Учитывая, что к 1732 году 66 кирилловских монахов, то есть более четверти от общего числа, прожили в Кирилло-Белозерском монастыре не более трех лет, состав братии этой обители трудно назвать постоянным. С другой стороны, и тех, кто провел здесь по 10-20 лет, также было немало. Такой срок постоянного пребывания в этом монастыре имел каждый третий монах. По 20-30 лет Кирилловскому монастырю отдал почти каждый седьмой из его насельников. И это еще не предел. К примеру, около 35 лет в монастыре прожили трое монахов: Серапион Новозерский, Макарий Бухлычевский и Иаков Брызгалов, в 1732 году всем им было за 60. Сорок лет в обители провел монах Евдоким Губин. Подлинным долгожителем Кирилло-Белозерского монастыря являлся монах Андреян Брусин, проживший здесь полстолетия.
В источнике имеются сведения о социальном происхождении 191 человека из кирилловской братии, среди которых было 125 крестьян, 41 представитель духовного сословия (священники, церковнослужители, а также их дети), 23 монастырских служителя (из которых 16 человек состояли на службе в Кирилловском монастыре), один дворянин и один посадский житель. Как видим, явное преобладание имели крестьяне, составлявшие почти 2/3 от общего числа насельников.