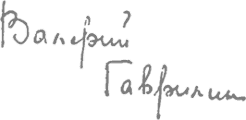 |
||
|
|
||
 |
||
Е.
Шелухо |
Е.
Шелухо. Перед нами — уникальный документ уходящей музыкальной эпохи. Документ, собираемый по крупицам и пока не восстановленный полностью. Очень личностный и потому — предельно правдивый. Богатый ранее неизвестными фактами, в связи с чем — бесценный в постижении творческих миров тех, кто к нему причастен. Речь идет о недавно собранной и еще не опубликованной переписке двух великих русских художников XX столетия — Валерия Гаврилина и Георгия Свиридова (материалы переписки хранятся в архиве Гаврилина, и для данной статьи были любезно предоставлены вдовой композитора, Наталией Евгеньевной). Несмотря на разницу в годах, составлявшую не много ни мало четверть века, композиторов связывала крепкая и длительная дружба на протяжении всей жизни. Кажется, что не прекратилась она даже с уходом художников (с разницей ровно в год — январь 1998-1999 года) — в день кончины Валерия Гаврилина на пюпитре его рояля, словно знак непрерываемой духовной связи, остались ноты «Отчалившей Руси» Свиридова... Переписка была важнейшей, но не единственной стороной дружеского общения музыкантов, которая — в силу их занятости, жизни в разных городах — обретало по преимуществу литературное выражение. Симфоническое и камерное — так хочется определить две плоскости литературного диалога Гаврилина и Свиридова. С одной стороны — рецензии, интервью и статьи о творчестве друг друга, адресованные широкой публике, а с другой — представляющие область личного общения дневниковые заметки и переписка. Их объединяет своего рода «лейттема», в качестве которой выступают схожие творческие установки, затрагивающие, в частности, тему «русскости» русской музыки. Чувство совести, простота и опора на традицию видятся композиторам сутью национального. Лейтмотивом в записях музыкантов звучит тема России, пронизанная болью и тревогой за непростую ее судьбу. Это — общее. Вместе с тем в жизни и в мыслях композиторов существовало и то, что никогда не могло быть вынесено на публику — самое сокровенное, остро переживаемое. Вместилищем, тайником, сокровищницей такого сугубо личного, поверяемого только близкому другу и единомышленнику, могла стать лишь переписка, в которой, по мере сближения музыкантов, и найден был тот единственно свободный, ни отчего не зависимый, предельно открытый друг другу и закрытый от посторонних, путь дружеского общения. Две темы, ставшие в письмах сквозными, открывают важнейшие стороны жизни художников. Это — трагедия творческого одиночества, источник и следствие их несвоевременности, непонятости и отчасти — непринятости, и, вместе с тем, великое счастье взаимооткрытия. Переписка Свиридова и Гаврилина имеет небольшие масштабы. Ей свойственна некоторая нерегулярность, которая легко объясняется существованием других каналов общения друзей, которыми, в частности, были встречи и телефонные звонки. И все же при знакомстве с письмами не возникает ощущения прерывистости, напротив, все они воспринимаются единым философским монолитом. Во многом потому, что начисто лишены бытовизмов и по большей части своей декларируют общие, неизменные на протяжении жизни творческие позиции двух мастеров. Известный по музыкальному творчеству мастеров принцип «мало, но емко» находит своеобразное литературное преломление в краткости, отсутствии какого бы то ни было проходного материала. Начинаясь обсуждением какого-либо из событий творческой жизни, например, премьеры произведения, либо — выхода статьи, письма выходят к широким обобщениям о жизни, о творчестве, о России. На данный момент собрано 39 писем, в том числе — поздравительные открытки, телеграммы, краткие записки. Основную часть наследия представляют письма Свиридова, адресованные Валерию Гаврилину. Из писем Гаврилина Свиридову пока удалось найти лишь три (дальнейшие поиски пока затруднены). Тем не менее, обращение к имеющимся материалам уже дает возможность воссоздать достаточно ярко картину живого дружеского общения композиторов. Каким оно было между Свиридовым и Гаврилиным? Не нужно вчитываться, чтобы увидеть ту необыкновенную, и, кажется, в наше время уже утраченную уважительность, которой проникнуто каждое послание. Уважительность, сопряженную с какой-то особенной, русской ласковостью. «Дорогой мой...», «обнимаю Вас...», «с братской любовью» — все эти характерные для эпистолярного жанра речевые обороты утрачивают свою трафаретность, окрашиваясь искренним и всегда ярким чувством. Гаврилин, подписываясь в письме, называет себя «учеником» Свиридова. Свиридов же питает к Гаврилину «братские чувства», словно уравнивая степени их талантов. По определенным критериям выстраивается диалог. Это — диалог-согласие, ему не свойственны ирония, яростные споры, он овеян мирным, по-настоящему братским, добрым чувством. Каждая высказанная идея получает горячую поддержку и продолжение в размышлениях. При этом внутренне диалог весьма контрастен: с одной стороны — свиридовские скупость речи, непримиримость позиции, горечь тона, категоричность (особо значимые мысли и слова Свиридов выделяет подчеркиваниями), а с другой — романтически восторженный характер высказываний, эмоциональность, множественность эпитетов стиля Гаврилина. Выразителем характера становится и почерк: у Свиридова — мелкий, острый, резкий, у Гаврилина — мелкий, но какой-то по-детски трогательный, старательный, округлый и степенный. Невольно рисуются образы двух музыкантов. Гаврилин, по воспоминаниям Н. Тульчинской, «...совсем не был похож на композитора и вообще на великого человека. Небольшого роста, очень худенький и с очень внимательными и очень добрыми карими глазами. И с очень красивым голосом, мягким таким баритоном». Н. Лебедев добавляет: «Выглядел ... В. А. очень романтично: удлиненные волосы, кутал шею шарфом, как Антон Веберн в лихолетье». Свиридов в описании Гаврилина «...человек крупный, с тяжелой поступью и тяжелым, прощупывающим взглядом небольших темных глаз. Во всем облике есть нечто от большого зверя (по Бунину), что отличает только очень породистых людей и является признаком сильно развитой первопамяти, способной обращаться не только глубоко вспять, но предвидеть, заглядывать вперед себя. ...У него разговор неожиданный, то громкий, то еле слышный, то резкий, едкий, то вдруг сразу осторожный, таинственный, он одновременно доверчив и подозрителен, открыт и замкнут, воинственен и раним. Кажется, внутри него постоянно работают какие-то вулканы, которые каждую минуту все переворачивают наоборот. И он переживает и прорабатывает для памяти вообще все состояния, отпущенные богом человеческой памяти. Он очень добр (к добрым), болезнен к фальши и двоедушию и совершенно лишен зависти. Иногда очень сух, но без тени заносчивости, «ибо каждый заносится настолько, насколько у него не хватает разума. У него строгий римский профиль, профиль цезаря». Различна была и манера литературного высказывания двух музыкантов. Если стиль свиридовских высказываний находится в русле традиций русской блоковской интеллигенции, то Гаврилин, тяготеющий к языку фольклора, оказывается близок «поющим деревню» — поэзии Клюева и Рубцова, прозе Шукшина и Шергина. Цепочку сравнений можно было бы продолжать. Может быть, в этих бесконечных различиях и была сокрыта сила невидимого притяжения двух друзей? Обычно сдержанный в проявлении своих чувств, Свиридов признавался: «Очень жаль, что годами не видимся с Вами, скучаю без Вас, сказать по правде» (число не указано, 1990 г.). «Очень без Вас скучаю», — восклицал Гаврилин, — «Вы единственное в жизни, что заставляет меня работать» (11.06.1984). Предельно скромный, нередко сомневающийся в силе своего таланта, Валерий Гаврилин в лице старшего друга находил авторитетную поддержку и опору. Свиридов же в общении с Гаврилиным проникался оптимизмом его молодости. Характер этого творческого союза могла бы, наверное, передать одна из строк свиридовских писем: «Вы верите в торжество органического живородного искусства, а я уже как-то перестал надеяться...»... Фундаментом композиторской дружбы было их редкое взаимопонимание, единомыслие, которое они бесконечно ценили. «...Ваши мысли и само понимание искусства исключительно близки мне...» (число не указано, 1976), — пишет Свиридов в одном из первых писем Валерию Гаврилину. — «...Вы — во многом близкий мне тип человека, хотя конечно — абсолютно суверенный» (29. 07. 1978). Дальнейшие признания духовного родства постепенно утрачивают свою первоначальную сдержанность: «Дорогой мой Валерий Александрович! — обращается Свиридов в телеграмме 1977 года. — Шлю Вам Новогодний привет и лучшие пожелания: здоровья, счастья, благоденствия и творчества, — одному из самых близких мне по духу и судьбе людей! Обнимаю Вас как друга». «... Я считаю Вас человеком, близким и по крови, и по духу, и по смыслу творчества», — наконец, заключает он (11.09.1980). Дружеское взаимопонимание отразилось в тонкости и точности композиторских высказываний о стиле друг друга. Так, например, важнейшие стилевые качества музыки Свиридова, Гаврилин определяет метафорами: чистота родника (в оценке стиля) и крепость дерева (в исторической оценке творчества). Свиридов же, в то время, когда стиль Гаврилина был предметом нападок академических музыкантов — многие его не принимали, считая чересчур упрощенным, и нередко имели смелость его публично корректировать, выдвигает постулат об истинном отношении к гаврилинскому творчеству: «Исправлять» Вас это значит «портить» Вас» (1976). Наиболее активный период переписки затрагивает промежуток с 1976 по 1986 год. В жизни каждого из композиторов он был по-своему значим. В творчестве Гаврилина это едва ли не самое плодотворное десятилетие: в это время он пишет много музыки к драматическим спектаклям (в отличие от многих, этот жанр у Гаврилина не был «второстепенным»), в числе которых — выдающийся «Степан Разин» (1979), песни («Шутка» (1978), «Простите меня» (1983), «Осенью»), создает свое вершинное произведение — музыкальное действо «Перезвоны» (1981-82), и наряду с ними — получившие широкое признание балеты «Анюта» (1982) и «Дом у дороги» (1984). В 1976 году выходит первая статья о Свиридове. В творчестве Свиридова эти годы были ознаменованы появлением хорового цикла «Пушкинский венок» (1978), «Трех образов Богородицы» для смеш. хора без сопр., цикла песен на сл. А.Блока «Песни безвременья» 1980), шла работа по созданию «Песнопений и молитв»(1980-1997). Вполне закономерно, что именно в этот период рождаются и музыкальные посвящения друг другу. Свиридов посвящает Гаврилину написанные одно за другим хоровые сочинения — «Запевка» (1980) и «Лапотный мужик»(1981). Ответно рождается и гаврилинское посвящение — действо «Пастух и пастушка» (так и не допущенное композитором к слушателю), о чем он сообщает в письме от 11. 06.1984: «...свое новое действо «Пастух и пастушка» (по прочтении Астафьева) я посвящаю Вам. С любовью бесконечной и горячей-прегорячей». К сожалению, это единственное посвящение Свиридову. А вот свиридовские посвящения на этом не заканчиваются. В 1993 году композитор передает другу ксерокопии рукописи «Песнопений и молитв» с автографом на титульном листе: «Валерию Александровичу Гаврилину единственному в своем роде и великому таланту. 13.4. 1993 г. С.-Петербург. Г.Свиридов» и «Дорогому Валерию Александровичу Гаврилину, любимому композитору и человеку на память добрую. Г. Свиридов. С.Петербург. 23.04.1993 г.». Есть среди них и посвящение-портрет, датированный 2.01. 1986, о котором Свиридов говорит в письме (14.02.1986.): «...Вчера был у меня Ю.И. Селиверстов. По его просьбе, а вернее — предложению, я оставил автограф на своем портрете работы Юрия Ивановича. Портрет этот предназначен для Вас. Мне это доставило удовольствие, притом — большое. Ю.И. сказал мне также о том, что он договорился /.../ о печатании этого портрета. /.../ Автограф написал Вам со смыслом из А. Блока: «Мы — сам друг, над степью в полночь стали...». Мы, сам-друг, над степью в полночь стали: «Смысл» процитированных блоковских строчек раскрывают многие письма композиторов. Главная тема в них — ощущение творческой одинокости, непризнания, затерянности в безбрежном океане современной музыки, ориентированной на новомодные западные течения. Свиридов и Гаврилин обладали недюжинным мужеством, противопоставляя себя и свое творчество новым всеохватным музыкальным тенденциям. В период, когда советскую музыку захлестнула вторая волна авангарда, они, с присущей им кристальной честностью «родника» и твердой незыблемостью «дерева», ратовали за национальную преданность искусству, настаивая на продолжении национальных традиций. Теперь, в оценке музыкальной истории XX века, явление творчества Свиридова и Гаврилина представляется стержневым. Думается, что именно на таких, как они, редких творческих единицах, держалось и держится до сих пор явление русской культуры, сохраняется ее уникальность. Среди ближайших им предшественников, в подобной роли выступал Николай Метнер, критикующий современное искусство, рожденное в погоне за модой: «Модернизм», — писал он, — это мода на моду. «Модернизм» есть молчаливое соглашение целого поколения — изгнать музу, прежнюю вдохновительницу и учительницу поэтов, и вместо нее призвать моду, как неограниченную владетельницу и верховного судью». Подобно Метнеру, Свиридов и Гаврилин остро реагировали на повсеместную тенденцию отхода от русской музыкальной традиции, грозящую скорой утратой национального. Но, в отличие от предшественника, их критика оказывается более жесткой и целенаправленной. В одной из статей о творчестве Свиридова Валерий Гаврилин открыто осуждает позиции большинства композиторов-современников: «В последние годы стали говорить о сохранении природы. После того как долго ее переделывали, модернизировали, эксплуатировали и уничтожали. И все творчество Г. Свиридова имеет непреходящее значение прежде всего в этом смысле — сохранение изначальной музыкальной природы, защита ее от отравляющего воздействия далеко не чистой современной музыкальной среды, густо наполненной всяческими открытиями и поисками, зачастую эффектными и роскошными, но далеко не безобидными, ибо новое — не всегда означает нужное и хорошее». Смелость Гаврилина, его публичный выпад в сторону приоритетного в композиторском творчестве направления, будоражат Свиридова настолько, что он тут же, в ответ на статью, присылает большое письмо, в котором впервые, уже — в диалоге, а не на страницах дневников, открыто выражает свою позицию: «Дорогой Валерий Александрович /.../. Возникает сознание большой серьезности и глубины поднятых Вами вопросов. Вызывает также мое восхищение прямота, чистая и смелая Ваша позиция. Ведь Вы вступите в бой с целым кланом опытных, сильных и хорошо организованных недругов, хотя надо сказать, что их сила за последнее время как-то поубавилась. Нет у них музыки — вот их беда. Пока они декларируют свою «новизну», люди их могут послушать, но все разговоры становятся пустыми, когда они пытаются подкрепить их своей слабой музыкой, малохудожественной, малосодержательной, ничтожной, хоть и претенциозной. Но злобы у них — хоть отбавляй! В том числе и на искусство и на нас, — посильных его носителей. Первая их реакция на наше появление: стараются не замечать, как бы тебя — нет вовсе. Когда уж нельзя не заметить, стараются привлечь на свою сторону, приспособить для своих интересов, себе на службу. Тут выступает их главное оружие, их месть, доходящая если надо, до непомерности, до абсурда. На этот крючок попадались, надо сказать, многие и талантливые люди. (Вспомните, например, Леонида Андреева с его непомерной славой, да и других тоже близких по времени и по роду занятий можно припомнить). Если же человека нельзя купить, то его стараются уничтожить и никогда не смиряются, всегда стараются уничтожить, даже когда раболепствуют, втайне все равно ненавидят. Их глаза устроены таким образом, что они видят в России только грязь и мерзость: Катерин Измайловых якобы вынужденных (вот бедняга-то!) травить и душить окружающих во имя «личного счастья», Иванов Грозных — убивающих своих детей, или Павликов Морозовых, продающих своих родителей. Я далек от того, чтобы считать идеалом русскую жизнь, в ней много мрачного (как и в любой другой), но не из одного мрака она состояла и состоит! Тут я держусь иной точки зрения, о которой сейчас не время говорить на /публике/. Но мне видна и глубоко противна мысль /оболгать/ и опачкать жизнь нашего родного племени. Все это уложится в давнюю проблему «Россия и интеллигенция», которой много внимания уделил А. Блок, умнейший, и может быть гениальнейший Русский нашего века. Не буду Вам надоедать больше. Хочу только сказать: будьте осторожны и осмотрительны. Эти люди способны на любую подлость. Но Бог с ними! Я радуюсь расцвету Вашего таланта, несмотря на трудную судьбу его. Я верю в добро, непродажность» (1.09.1980). И все же, свиридовская «вера в добро» нередко затмевается болезненным переживанием собственного творческого одиночества. «Гибельность моей жизни — одинокость», — пишет он. Сквозь многие его письма прорывается крик: «Нельзя быть — одному!». Свиридов отчетливо понимает происхождение одинокости: «...между нами и другими есть «недоступная черта», как говорил Блок (цитируя Пушкина) в самом мироощущении, миропонимании. Вот в чем беда. Ее никак не преодолеть...». И, несмотря на это, он прикладывает все усилия, чтобы предостеречь свого друга от ее разрушительной мощи. «Кажется мне, что Вы повторяете мою ошибку и живете — одинокостью. Это — очень плохо, оттого, что очень трудно так жить! — пишет он. — Почему-то все русские хорошие люди (не только музыканты) забились по углам, разъехались по разным местам, живут одиноко, беззащитно, беспомощно как-то, а злобная, организованная, разрушительная сила заняла весь центр художественной жизни, владеет не только благами и деньгами (это — куда бы ни шло!), владеет средствами уничтожения всего живого, уничтожения русской классики (живую, — они делают ее мертвой), русской мысли и русского насущного творчества. При таких условиях — одному не потянуть, не выжить! Надо искать общения! /.../ Послушайте меня, старика, бойтесь одинокости, она отнимает последние силы...» (29. 07. 1978). Трагедию одинокости Свиридова Гаврилин понимал без слов. Ее он услышал в музыке старшего друга. И, потрясенный этим открытием, написал: «...За день до Вашего отъезда был я в филармонии, слушал Тринадцатую симфонию Д. Шостаковича. Я слушал эту странную музыку, навязчиво пронизанную интонацией-фикс, иллюстративный вокал, фальшивые, кокетливые стихи Евтушенко, и вдруг меня ошеломило видение Вашей музыки — я вдруг с невероятной силой понял все величие того подвига, который приняли Вы на себя, всю меру страдания, которое пришлось Вам испытать, делая в музыке то, что Вы делаете и делали. Меня потрясает Ваша мудрость и мужество, необходимое для приведения мудрости этой в действие. В Вашей музыке я вижу воплощение святоотеческого христианства, без которого мир задыхается, отгрызает себе члены, и которое, тем не менее, миром заплевано и втоптано в грязь. Ваши многолетние страдания, пока мало ведомые и непонятные миру борьбы и бездуховности, во сто крат мучительнее и выше прославленных и понятных миру страданий, которые не могут породить ничего, кроме грязи и спекуляции, потому что у основания их лежит порочное соотношение «Я в мире», вместо «мир во мне» (4.07.1981) ...Верю из всей музыки только в Вашу, потому что вижу в ней спасение мира, проповедь не менее прекрасную и страстную, чем поучения Аввакума, которого почитаю как и Вас» (11.06.1984). «Дорогой Валерий Александрович! — отвечает Свиридов. — Полгода назад получил Ваше письмо, читал его не раз и не два, и много раз. Вы попали в точку, угадав и почувствовав мою жизнь и мою судьбу. Я думаю, это потому, что Вы сами идете той же дорогой русского художника, который не может и не хочет быть иным, неся в своей душе тысячелетиями спрессованное, но вечно обновляющееся чувство мира. Но и в уме стало ясно: быть иным ни к чему, это значит стать роботом, без души, без народа, без отчизны. Вы верно пишете о том, чего миру не хватает, и без чего он задыхается. По этой линии разграничена вся наша жизнь. Что же делать? Писать о Своем, сколько есть сил и способностей воспевать Свое, Свою песню спеть!» (5.12 1981). И каждая новая «песня», выходившая из-под пера одного немедленно встречала искреннее восхищение и поддержку другого. Так, еще одной сквозной темой переписки становится музыка друг друга. Большинство писем содержит яркие восторженные рецензии. Таковы, например, многочисленные отзывы Свиридова о песне «Два брата»: «...Сказать Вам по правде, я плакал над песнею «Два брата» (и всегда над нею плачу) /.../. Только так надобно писать на эту тему, как это делаете Вы, больше этого никому не удается... Что я могу Вам сказать: пишите — так же!...» (1976). О ней же: «...Изумительная вещь, я второй раз ее слышу и плачу. Какая красота, сколько чувства и какого благородного! Как хороша, как свежа форма, как она естественна. Какие дивные переходы: в мелодии, от темы к теме, от куплета к куплету. Это шедевр, поверьте мне!» (1. 01.1979). Радость открытия настоящего искусства, которое музыканты находили в творчестве друг друга, бесконечная вера в его созидательную силу была для них единственным спасением в тяжелой ситуации творческой отвергнутости. «Высокая музыка, — пишет Гаврилину Свиридов, — большой противовес всей дряни, жаль только, что не все ее слышат. Но те, кому это дано — имеют утешение от многих бед и зол жизни. Счастлив художник, кто способен родить добро, Вы из этих счастливцев, а я, уже старик, имею большой опыт и не ошибаюсь в этом вопросе. Среди превратностей судьбы вспоминайте о своем даре, пусть эта мысль врачует Вас и придает Вам силы созидать добро» (декабрь 1983). В свою очередь, Гаврилин подчеркивает спасительную силу музыки Свиридова: « ...Я /.../ не представляю, откуда бы я брал силы не только сочинять, но и просто жить, будучи музыкантом, не зная Вашего великого творчества и счастья общения с Вами» (24. 10. 1982). Таковы немногочисленные письма двух друзей. Длинные и краткие, трагические и светлые, они не выстраивают хронологию жизненных событий. Не пестрят пикантными фактами из жизни. Устремленный в вечность, мир переписки раскрывает «вечное» — духовные основы русских композиторов, остававшиеся незыблемыми в условиях творческой одинокости и непринятости. Переписка Свиридова и Гаврилина воспринимается некоей духовной «симфонией», как в смысле дружеского «со-звучия» и «согласия», так и в смысле откровения, величия и красоты, которые, как и дружба художников, могли бы быть сравнимы разве только с их музыкой. |