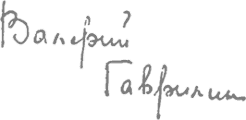 |
||
|
|
||
 |
||
|
Мещерякова Н. А. |
Мещерякова Н. А. Во все времена живая душа человека Николай Бердяев не был пророком, но по сути был прав, утверждая: «Наша эпоха будет признаваться эпохой небывалого обострения религиозного сознания... Мир развился до новых небывалых противоречий. Такую внутреннюю тревогу знала, быть может, лишь эпоха гибели античного мира и явления христианства в мир. Как и всегда, в такие эпохи нарождаются мистические искания и течения. Мистика всегда предшествует эпохе сильного религиозного света» [4, 205]. Этот прогноз оправдался в усилении интереса отечественных художников, литераторов, композиторов к религиозным темам и сюжетам. В этом проявилось стремление приблизиться к высшему миру духовности, спасти, возродить человеческую душу. Выражением подобной тяги стали и два сочинения, разделенные столетием: в 1884 году была завершена С. И. Танеевым кантата «Иоанн Дамаскин», в 1984 году состоялось первое исполнение хоровой симфонии-действа «Перезвоны» В. А. Гаврилина. Конечно, не стоит искать каких-либо внешних моментов общности этих произведений. Однако в связи с обращением к религиозной тематике отчетливо выделяются, по крайней мере, три особенности, сближающие их: Характерно при этом, что ни С. Танеев, ни В. Гаврилин не идут механистическим путем привнесения в поэтику религиозной атрибутики, не воспроизводят заимствованных из духовной музыки жанров. Для Танеева, например, такой путь был неприемлем в первую очередь в силу моральной щепетильности, не позволявшей ему вообще писать церковную музыку. Как известно, на подобные предложения он отвечал такими словами: «Да ведь я не верующий и не могу писать церковную музыку» [цит. 6, 18]. Современники свидетельствуют о том, какие нравственные затруднения испытывал он, заполняя анкетную графу, касающуюся вероисповедания; после мучительных колебаний он оставил такую запись: «крещен в православной вере» [цит. 10, 40]. Не искусственно реставрируемой, «реанимируемой», а живой, бытующей средой, сосредоточившей религиозные представления, была для Танеева современная ему русская философия. Особенно были близки ему изложенные В. Соловьевым идеи «всеобщего единства», единения религии, православной и католической. И, конечно же, весьма распространенная в то время в отечественной литературе общенравственная трактовка духовных истин. Таким широким нравственным смыслом наполняется С. И. Танеевым и А. К. Толстым идея религиозного долга, представленная в поэме и кантате. Работая с первоисточником, композитор стремился к предельному обобщению, символизации основных понятий («путь», «братья», «надежда», «любовь» и т. д.). В свою очередь Гаврилин, используя в процессе создания текста «Перезвонов» религиозные мотивы, обращается к микрокосмосу человеческой души, воплощает глобальную трагедию потерянной личности. Смысловым ключом служит найденное им словосочетание: «ой; теря, теря, теря, золотые ятеря». Между тем в народе широко бытует выражение «потерянный», имеющее горький, сострадательно-осуждающий оттенок, поскольку подразумевает человека с потерянной совестью, потерянного для общества. Явно присутствует при этом и намек на несостоявшуюся судьбу («он, качи, качи, качи, что хотел, не получил»). Гаврилин, прибегая, как и Танеев, к символизации центральных образов реки, дороги, коня и других, применяет уникальный, самобытный способ организации текста. Он выстраивает его таким образом, что внутри него развиваются, движутся навстречу друг другу противоположно направленные процессы вербализации и девербализации. Первый из них связан с трудным поиском истинного Слова, способного выразить высокий духовный смысл – в «Молитве» и во второй смысловой кульминации цикла, «Белы-белы снеги»; именно к этой части устремлена вся сквозная линия, основанная на симфоническом развитии темы дудочки, воплотившей порыв души, тяготящейся своей немотой. Суть процесса девербализации – в постепенном преодолении власти навязанных формул-заклинаний (типа «весело на душе») и стертых речевых штампов. В итоге достигается та же цель, что и в первом случае, но другими средствами; превозмогая плен, душа словно откликается на призыв В. Розанова: «Гуляй, душенька, гуляй, милая!», она перестает быть молчащей, безгласной, заговорив природным языком сонористичсских формул – «перезвонов». Это слышно в таких частях, как «Ерунда», «Ти-ри-ри», «Вечерняя музыка» – воспроизводящих непосредственный процесс народного словотворчества с той же наблюдательностью и глубиной, как, скажем, в прозе В. Шукшина; вспомним героя рассказа «Одни», который, играя на балалайке и приплясывая, напевает: «Ох, там, ри-та-там, ритатушеньки мои!». В таком освоении слова – еще один лик постоянного для Гаврилина поиска высшей естественности, житейской и жизненной правды. Не случайно он сам не раз говорил и писал о собственной тяге к «простому, как мычание», к тому, что существует без позы, без вранья, «без актерства». Сравним с такой позицией и выношенное М. Бахтиным: «Много гримас, случайных личин, фальшивых жестов обнаружит герой, пока, наконец, лик его не сложится в устойчивое, необходимое Целое. Сколько покровов нужно снять с лица самого близкого, по-видимому, хорошо знакомого человека, покровов, нанесенных случайными реакциями, отношениями и случайными жизненными положениями, чтобы увидеть истинным и целым лик его» [1,10]. Сказанное приложимо и к внутреннему процессу работы художника над образом, и к тому способу, которым Гаврилин подводит слушателя к постижению сути своего героя уже в ходе восприятия сочинения. Его герой преодолевает три мифологические области: подземную, земную и небесную. Он соприкасается с тремя образами молитвы. С первым, телесным, рожденным в суетности мирской - наивными, почти примитивными представлениями о чертях, адском пламени и т. д. Круг таких образов здесь настолько слит с повседневной обыденностью, с сиюминутным миром вещей, так насыщен предметной конкретикой (причем остро ощущается в нем переизбыток предметов «сниженных», взятых «со знаком минус»), что, в конце концов, особенно в финальной части, в «Дороге», произойдет слияние двух плоскостей – запредельного адского небытия и житейского бытия. Не оттого ли в «Дороге», выполняющей и роль смысловой динамической репризы, образы символические будут заметно потеснены реалиями земного грешного быта: Воют собаки, ветер носит, И темные образы-символы преломлены в игрушечном стеклышке детской скороговорки («черные черти чертят черно»). Вот уже кажется, будто адский апокалиптический поезд, разрушив грань между живым и нежитью, вышел на рельсы реального бытия. Но кто шествует в этом странном и страшном обозе? Невозможно разглядеть лица. Сплошной массой движется покорная понуканиям толпа: причудливо сдвоены по законам трагического гротеска образ грешника и его палача, образ самой России, лагерной, подконвойной, во все времена знавшей тяжесть креста несвободы. Если истинная суть прогресса, по словам Н. Бердяева, состоит в «уменьшении человеческих страданий, бедности и унижения и творчестве положительных ценностей» [4. 196], то такое коллективное целое, в котором теряется конкретное личное, становится воплощением духовной несвободы. «Весело на душе» – это формула заклинания, которую в слепом отчаянии повторяет толпа рабов первой части «Перезвонов». Но человек пытается высвободиться из-под власти фикций. Герой этой хоровой симфонии-действа пройдет тремя кругами: из земного грешного ада поднимется в сферу человеческой любви, достигнув высшего нравственного блага – душевного сострадания. «Скажи, скажи, голубчик» и, затем, вершина развития, идущего от игровых «Посиделок», от лирической «Дудочки» – «Белы-белы снеги», эти части гаврилинского цикла позволяют вспомнить драматургический и содержательный прототип, связанный с партией альта в баховских «Страстях» с воплощением женственного страдательного начала. Другой ступенью восхождения человеческой души станет сфера возвышенная, духовная – в момент сокровенного разговора с Господом, приношения всех страданий своих к божественному престолу в кульминационном центре сочинения, в «Молитве». Затем, по мере приближения к окончанию действа, вновь происходит спуск, скат в греховную адскую пропасть. Заметим, что перемещение души по трем кругам бытия связано в тексте «Перезвонов» с антитезой безликого коллективного «Мы» в крайних разделах (в этой общности, враждебной человеку, тонет каждое отдельное «Я») и самостоятельного «Я», осознанного в диалогической форме, будь то общение с другой состраждущей душой или с Богом. Путем длительного мучительного осознания себя человек обретает свою самость. Впрочем, в антитезе «Я» – «Мы» есть и иной смысл. На краю небытия – именно здесь и пребывают герои Танеева и Гаврилина – каждый человек неизбежно отделяется от людей, он обречен на одиночество, и именно таким одиноким, отринутым ощущает себя в иной ипостаси – в тексте «Иоанна Дамаскина» мы не случайно встречаем образ одинокого путника, продолжающего скитания и в запредельном мире: «Иду в неведомый мне путь». На одном полюсе сам герой, на другом – некая человеческая общность «братья» («не слышу братского рыданья»). Существует лишь один способ обретения духовной общности человека с миром, согласно взглядам В. С. Соловьева и А. К. Толстого, ясно отозвавшимся в творчестве С. И. Танеева: постижение идеала братской Любви. Этот идейный мотив привносится в семантический прототип католической заупокойной мессы, с которым; перекликается концепция «Иоанна Дамаскина» – в ней отражаются два важнейших этапа запредельного существования души: мучительного отлучения от земной жизни и светлого приобщения к высшей божественной истине. Из недр современной композитору отечественной философии вырастает содержание качественно нового этапа духовного бытия, воплощенное Танеевым во второй части кантаты. Это, по сути, примирение двух ипостасей души, земной и небесной, обретение духовного бессмертия не только в божественной сфере, но, условно говоря, и в душевно-общительной. В отличие от героя «Перезвонов», так называемый персонаж кантаты преодолевает свой запредельный путь в одиночку, обретая духовную силу. И эта идея оказывается вновь созвучной представлениям Бердяева о том, что лишь в одиночестве человек как личность достигает полного могущества. Но если, как уже отмечалось, для Танеева живой сферой обращения религиозных идей была современная ему философская мысль, то для Гаврилина таковой сферой является народное сознание, в котором свободно перемешаны языческие и православные традиции («Матка-река», «Страшенная баба»), а обыденные, мирские и религиозные представления находятся нередко на границе веры и суеверия. Разными путями оба автора приходят к общему результату – к отказу от реанимирования, механической реконструкции утраченного мира религиозно-духовных ценностей. Композитор находит их в фольклорных образцах самых различных жанров, показывает, как образы святых писем Голубиной книги, отзываются в потешках, скороговорках, прибаутках, тиражируются народным сознанием и трансплантируются на многообразную жанровую почву. И тогда в тексте на первый взгляд традиционного каченьица из «Смерти разбойника» звучит: Ах, качи, качи, качи, Отражение реального бытия духовных тем и сюжетов, религиозной атрибутики, рассеянных в мирском, обыденном сознании, тесно связано с разрушением искусственной иерархии, фольклорных жанров, предрассудков, проявившихся в свое время в неправомерном разделении жанров на высшие и низшие. В этом отношении Гаврилин сказывается прямым наследником, единомышленником и продолжателем о. Павла Флоренского. Его теоретическими исканиями как бы освящен и сам рискованный прием, к которому прибегает композитор на музыкальном и в еще большей степени на текстовом уровнях: прием погружения в частушечную поэтику иножанровых. элементов. Причем саму эту возможность открывает он для себя задолго до создания «Перезвонов», испытывая в «Русской тетради» и в «Военных письмах» психологический феномен частушки, описанный Флоренским в предисловии к его «Собранию костромских, частушек» и определяемый им как «глубокое в шутливом и шутливое в глубоком» [12, 167]. Кстати, как бы предвосхищая обращение Гаврилина в поисках той же психологической раздвоенности к немецкой романтической поэзии, Флоренский проводил на первый взгляд неожиданную параллель: «Как и у Гейне, в глубине частушки нетрудно разглядеть слезы и боль разбитого сердца: однако и у Поэта, как и у народа, эти слезы показаны более легкими, чем они суть на деле» [12, 169]. Как и у Флоренского, у Гаврилина – и это доказывается музыкальным развитием – частушка - крайний предел того спектра народной песни, начальным пределом которого является былина, историческая песня и духовный стих» [12, 169]. Гаврилин, по существу, восстанавливает это историческое единство в жанровой трактовке частей действа. Избирая частушечную сферу в ряде сочинений в качестве лейтжанровой, а в данном - в качестве ведущей, композитор безусловно заинтересован в ней еще и как в выразительнице индивидуального или, по словам Флоренского, «особенного» сознания. Так Гаврилин приходит к ретроспективным связям и даже прямым совпадениям с русской философской мыслью, порой удивляющих своей точностью – совершенно неожиданно прямым прототипом образа трагического веселья, запечатленного в первой части хоровой симфонии, оказывается другой, созданный публицистическими средствами замечательным русским мыслителем В. Розановым и отразивший нелицеприятные представления автора о национальном характере: «Одна лошадь, да еще старая, да неумная, везет телегу, а дюжина молодцов сидит в телеге и орет песни. И песни то похабные, то задушевные, что «в е с е л о н а д у ш е» (разрядка моя. – Н. М. [цит. по 9]). «Весело на душе» – эта беспрестанно повторяемая формула-заклятье становится и названием части, представляющей безрадостное житье, забубённых душ, загнанных в тупик, приговоренных, подобно дантовским грешникам, к безостановочному бегу в одной упряжке с себе подобными., утратившими свое «я» и слившимися в некое безличное «мы». Но дело, конечно же, не в дословном сходстве высказывании и взглядов, разделенных значительной временной дистанцией, а в умении композитора на стыке веры и суеверия, религиозного и мирского, возвышенного и низменного обнаружить суть национального характера, «отличительную черту в наших нравах, ...какое-то веселое лукавство ума, насмешливый и живописный способ выражаться» [11, 170]. Но в том, как конкретно показан Гаврилиным «способ выражаться», как воплощены им по отношению к Слову понятия духовной свободы и несвободы, вновь ощущается резонанс представлений композитора с некоторыми взглядами Н. Бердяева. Композитор сумел отобразить процесс высвобождения души из-под власти «ложных и лживых и выветрившихся слов» [5, 176], представлений и, казалось бы, почти безобидного влияния канонических смысловых формул, закрепившихся в определенных фольклорных жанрах, отражающих как бы некогда запрограммированный, некий усредненный «ритуал жизни» – а не отдельную, неповторимую человеческую судьбу. Сквозь такую «ритуальность» пробивается (в «Молитве», в «Белы-белы снеги», в «Матке-реке», да и в первых двух частях) подлинное Слово, близкое к исповедальному, в котором отзовется уже единичная судьба. Конечно же, композитор разделяет с Бердяевым убеждение в том, что «слова имеют огромную власть над нашей жизнью, власть магическую» [5, 174]. Несомненно, в трудном и постепенном постижении героем Истины отразился современный процесс духовных исканий, который Бердяев словно бы предчувствовал, высказывая наблюдения, вполне относящиеся и к нашему времени: «...дышать стало легче, хотя события мрачны и тяжелы» [5,-176]. Помимо самого поиска конкретной реальной среды, воплощающей религиозные темы и сюжеты, обоих композиторов объединяет и причина обращения к сфере духовного – это душа. Она становится главным действующим лицом, «персонажем», и в кантате, и в симфонии-действе. В обоих произведениях душа (синоним жизни) связана с темой, запредельного существования человека. Оба автора как бы освобождают душу от налета конкретики, от биографических моментов, даже таких показательных, как в биографии Дамаскина. Не случайно Танеев использует текст тропаря, сочиненного святым Иоанном, но не связанного с перипетиями его собственной жизни. Танеев намеренно прибегает и к строжайшему усечению текста первоисточника, сохраняя лишь то, что совпадает, как уже отмечалось, с содержательным каноном заупокойной мессы, отражающей в крупном плане два основных этапа инобытия: страдания и очищения. Нетрудно догадаться, почему приближение к. духовному пространству происходит через сферу души. Для художника душа прежде всего средоточие творческих сил человека (как сказано А. К. Толстым: «Душа берет свои права»). Наконец, душа – главный предмет забот религии. Именно душа оказывается в центре молитвы, устремленной к Богу. Но при этом у Гаврилина в «Молитве» (написанной на вполне светский текст «Завещания» Владимира Мономаха и являющейся содержательной и драматургической кульминацией всего цикла) герой обращается к собственной душе: Зачем печалишься, душа моя? В кантате Танеева слова молитвы приобретают более строгий аскетический оттенок: О, передай душе моей Гаврилин в тексте действа подчеркивает бесплотность своего «персонажа», его принадлежность не телесной, а духовной сфере, ибо телесных, земных свойств он оказывается лишён. Это особенно отчетливо ощущается в тексте одиннадцатой части «Скажи, скажи, голубчик». Нежный, сострадательный вопрос обращен к герою: Скажи, скажи, голубчик, Характерна и примененная здесь образная метафора, сравнение с птицей (птица – синоним души): Положу под крылышко голову, Несмотря на стилистические различия обоих текстов, суть духовных исканий в них выражена сходным образом, к своему спасению, а в конечном счете – к бессмертию, душа приходит через Любовь и сострадание, а сама она объявляется высший нравственной ценностью. Впрочем, пафос, представленных опусов с достаточной точностью мог быть выражен В. Шукшиным, вдохновившим Гаврилина на создание симфонии-действа и рассматривавшим творчество как «историю человеческой души». Но при наличии отмеченного сходства кантата «Иоанн Дамаскин», провозглашающая торжество нравственных идеалов, отличается от «Перезвонов», где дан иной – пессимистический – исход и, по существу утверждается бессмертие греха в разрушенном, дисгармоничном мире, в котором все перевернуто, а пространственные представления смещены: На землю грешную падем, Небо, традиционно выступающее символом безгрешной чистоты, оказывается завоеванным, заполоненным силами зла. Вместе с тем в тексте содержится ясный намек на вполне земное, а отнюдь не мистическое происхождение воцарившегося хаоса: В наши души гадью плевано. Грязно! Обратим внимание при этом на то, что обыденные, откровенно приземленные образы соседствуют здесь с иными – образами-символами, отличающимися своими временными признаками, а также жанровым происхождением. Если образы кривды и сатаны закономерно связываются с духовными стихами и вообще с жанрами, образующими некий высший иерархический слой, кроме того, находятся как бы во вневременном пространстве, то образы низменного, земного быта ограничены во времени, «сиюминутны» и принадлежат «низшим» жанровым пластам – блатным песням, бытовой речи и т. д. Естественно, что внутристилевой контраст ведет к созданию ощущения мировой дисгармонии в симфонии-действе, в то время как в кантате стилевое единство помогает утвердить торжество гармонии. В этой связи стоит заметить, что сочинение Гаврилина примыкает к музыкальной фаустиане ХХ века и ряду других сочинений с религиозной проблематикой, в которых показан антимир, всеполагающая сила зла, не только объективно существующие позитивные идеалы, утверждаемые Танеевым и его современниками.. Впрочем, высшие нравственные ценности представляются герою симфонии-действа далекой, труднодоступной целью, на пути к которой встают не иррациональные, потусторонние силы, а земные преграды. С просьбой заступиться, защитить от власти этих реальных, земных сил и обращается к Господу отчаявшийся герой в «Молитве», во временном аспекте которой сливаются современность и вечность: Канонический религиозный мотив, использованный Гаврилиным, связан с образом разбойника благоразумного, правда, давно уже перекочевавшего из Евангелия и богослужебного канона в песню. Но именно песенная, «заземленная» интерпретация образа усиливает звучание темы целостной личности, темы, в свое время развитой Бердяевым в связи с его важнейшим постулатом всеобщего личного равенства. Отсюда дерзкий призыв к Господу с просьбой простить грешника, невзирая на степень греховности: По сути Гаврилин развивает и продолжает линию нравственных исканий, завещанных Танеевым: помимо утверждения и собственно завоевания бессмертия путем достижения высших истин, душа человеческая претендует на самоценность изначально, исходя из природы своей, одновременно земной и божественной. Другой сюжетный мотив, почерпнутый автором «Перезвонов» из религиозных источников, связан с представлениями о бесовских игрищах, которые затеваются посланцами ада с целью прельстить душу, испытать, ее. Бесовские игры перекликаются и с мотивами пещных действ и майских игр, например, в «Страшенной бабе». И этот сюжетный мотив запредельных испытаний души перед загробными вратами полифонически накладывается на фабулу, отражающую житие героя и разыгранную в хоровых эпизодах симфонии-действа. Говоря о театральности этого сочинения, стоит обратить внимание на своеобразие ее истоков: это адский, бесовский театр, рожденный в религиозных и суеверных представлениях, связанных с традициями фольклорных театральных форм, вертепа, масленичных игр и т. д. Следует подчеркнуть, что введение в «Перезвоны» сюжетного мотива бесовских игрищ создает эффект двойной игры. Возникает ощущение, что окаймленная крайними разделами, воплощающими апокалиптическое торжество хаоса, и предваренная своеобразной «экспозицией» героя («смертью разбойника»), народно-игровая стихия как бы «не всамделишна»: представлена здесь «режиссерами» и «актерами» того же бесовского театра. И это несмотря на то, что сама эта образная сфера связана с позитивными образами надежды, простодушного веселья, добра и любви, закрепленными в свою очередь в откристаллизовавшихся жанровых формах потешек, колыбельных, страданий и т. д. Не случайно кульминацией этой стихийно-игровой линии оказывается «Страшенная баба», доводящая игровой азарт участников действа до апогея разгула и разнузданности, по своему эмоциональному тонусу перекликающаяся с крайними разделами и до предела переполненная откровенной «чертовщиной». Конечно, нельзя отказать в праве связывать содержание этой части с конкретным моментом фабулы – женитьбой героя, как это делают ленинградские исследователи Беловы [см.: 3], хотя на наш взгляд, такая трактовка несколько сужает масштабы авторской идеи, а главное, заслоняет двойственность воплощенной Гаврилиным стихийно-игровой сферы; она отражает и житие конкретного персонажа- («разбойника») и объективизированный ход жизни человека вообще с естественной сменой времен (детство, юность, зрелость, неизбежный конец). Воплощением подлинного, всамделишного в симфонии-действе становится линия женственного сострадательного начала, берущая истоки свои в бессловесном плаче, причете, зове дудочки – теме-зерне, вызревающей постепенно и мучительно на протяжении всего процесса формы. Вся сквозная линия дудочки, этого своеобразного «развивающегося рефрена», представляет чрезвычайно значимый образ безгласной души, истомленной первородной потребностью самовыражения, с трудом преодолевающей плен безмолвия и обретающей подлинную свободу в истинном слове («Скажи, скажи, голубчик»). Не трудно заметить, что связывая истинное Слово с понятием свободы, а пребывание во власти шаблонов, стершихся или ритуальных слов – с несвободой, Гаврилин вновь обнаруживает родственность своих взглядов позиции Бердяева. Кроме того, он затрагивает и вполне современную трагическую тему потерянного поколения, обреченного на вынужденное молчание. Впрочем, исторические параллели и переклички удивляют порой неожиданной точностью. Так, В. Шукшина, в первую очередь тяготевшего к отражению истории души и охотно жертвовавшего ради этого приметами внешней жизни своих героев, можно считать единомышленником не только Гаврилина, но и Танеева. Этих художников сближает не только отношение к душе человеческой, но и суть обобщающего метода, свойственного автору кантаты, по сути тезисного. Постигая космизм души, Танеев подчеркнуто лаконичен и скуп в отборе выразительных средств. Шестнадцать (всего шестнадцать!) строк текста поэмы было выбрано композитором в качестве развернутой строфы, внутри которой он разграничил темы-тезисы, и таким логическим разделением была обусловлена трехфазная драматургия целого. Композитор подверг текст логическому дроблению, с одной стороны, а с другой – укрупнил каждый вычленяемый тезис-идею. В результате оказалось возможным выстроить, например, всю вторую часть кантаты на основе одного лаконичного высказывания: Но вечным сном пока я сплю, Тезисное мышление в данном случае как нельзя больше соответствует жанровым первоистокам тропаря (это проповедь), но, как известно, риторические формы проповеди когда-то в европейской традиции стали прообразом полифонических форм, в частности фуги. Однако здесь объективно-космический характер поэтических мыслей сочетается с лирической «субъективностью» музыкального решения текста – и в результате проповедь приобретает исповедальный оттенок. И наоборот, в «Перезвонах» исповедальность содержания (рассказ о жизни души и о «внешней» жизни обобщенного героя) не мешает стать содержательным центром проповеди добра и благочестия: Подчеркнём, что и в самой личности Иоанна, героя кантаты, Танеева привлекает гуманизм и мудрость проповедника, а не романтическая фигура страстотерпца, художника, обреченного на нелепое и мучительное молчание (таков обет, возложенный на него Святым отцом). На первый взгляд, трудно отыскать столь благодатную возможность для композитора связать личность героя с проблемами творчества в большей степени, чем с темой религиозного и нравственного долга, как это будет в кантате. Танеев легко преодолел этот романтический искус, по-видимому, отнеся сюжетный мотив, связанный с творчеством Дамаскина, к внешней стороне фабулы. Оставляя его в стороне, он тем самым отодвигает на задний план и заданную А. К. Толстым романтическую тему изгнанничества, одиночества художника. Отказавшись от воплощения дисгармонических образов, Танеев добивается удивительной цельности содержательной структуры, в то время как для Гаврилина большое значение имел как раз образ дисгармонии, хаоса – и он воссоздал диалектическое сцепление извечных начал: разрушительного и созидательного. При этом в симфонии-действе показано сложное взаимодействие космоса души с космосом окружающего мира, в то время как в поэме Толстого и в музыке кантаты Танеева они слиты. Впрочем, содержательная целостность, воплощенная Танеевым, тоже отличается некоторой двойственностью, но иного свойства, чем образная система «Перезвонов», и заключается лишь в одновременной принадлежности двум сферам – житейской и запредельной, мирской и божественной, поскольку все, связанное с постижением «неведомого пути», может иметь отношение и к инобытию души (в первую очередь), и к вечным скитаниям ее в земной юдоли. Разрушены границы между тремя мифологическими сферами, небесной, земной и подземной, и истории души, поведанной Гаврилиным – прежде всего благодаря примененной им жанровой диффузии, поиску межжанровых связей, жанровой трансплантации характерных элементов в условии иного, жанра (прием этот известен и используется композиторами, опирающимися в своем творчестве на фольклор). Так, причетные интонации описывают в «Перезвонах» своеобразную жанровую траекторию, переходя из потешек в страдание, колыбельную и, наконец, протяжную песню - «Белы-белы снеги». Здесь накопленная боль прорвется с небывалой возвышенной силой, вобрав в себя вековую скорбь российских вдов и матерей, оплакивающих загубленных, затерянных в военных и этапных снегах, наполнив содержание части высокой трагедийностью реквиема (нечто ахматовское, возвышенно-женственное проступит здесь). И вот облик деревенской девчоночки, такой милый, чуть простоватый (знакомый со времени «Русской тетради» и свойственный героине «Посиделок», за иронией и беззаботностью таящей свою тоску по любви), наполняется теплом сострадания («Скажи, скажи, голубчик»), озаряется божественным светом («Белы-белы снеги»), становится подобным богородичному лику. В итоге и женственное начало «перемещается» в процессе развития по трем мифологическим сферам. Иными словами, можно говорить об известной канонизации если не содержания и формы, то тех закономерностей, которые ими управляют. Так мы приближаемся к постижению того механизма, который способствует погружению художника в духовную сферу, возвращает его к древнерусским первоистокам творчества и выявляет третью особенность, сближающую авторов «Перезвонов» и «Иоанна Дамаскина». Она касается метода, условно названного здесь каноническим (или канонизированным), и вообще мышления особого рода – условно говоря, формульного. Важнейшей предпосылкой формирования данного метода и типа мышления оказывается предрасположенность психологического плана: наличие в творческом кредо мастера соответствующих принципов. Как видим, перед нами проблема, достойная специального исследования, здесь же наметим ее пунктирно. Определяя специфику мышления Танеева, Б. Асафьев не случайно заметил: «Мир – все для Танеева, сам он только отражение. Зачем упорствовать и гордиться своим «я», когда оно подчинено неизбежному и неизбывному. Ради общей гармонии, ради победы над хаосом личность должна смириться перед законами космоса, а в себе самой, внутри себя признать власть разума» [7, 114]. Подчинение личности объективным законам творчества происходит и у Гаврилина в тот момент, когда он ощущает себя древнерусским мастером, когда открыто признает изначальной строительной единицей формулу. О. Белова подчеркивает эту особенность его стиля, говоря о том, что «его музыка – не утверждение авторского «Я» в искусстве» [2,11]. В итоге у обоих композиторов проявляется тяготение к канону, который понимается, в частности о. Павлом Флоренским, достаточно широко. «Художественному творчеству, – считает он, – канон никогда не служил помехой, и трудные канонические формы всегда были оселком, о который ломались ничтожества и заострялись настоящие дарования. Художник, опираясь на всечеловеческие каноны, ...через них и в них находит силу воплощать подлинно созерцаемую действительность и твердо знает, что дело его, если оно свободно, не окажется освоением чужого дела, по истинность изображенного им». И далее: «Принятие канона есть ощущение связи с человечеством и сознание, что не напрасно жило оно, и не было без истины, свое же освоение истины, проверенное и очищенное, собором народов и поколений, оно закрепило в каноне. Ближайшая задача – постигнуть смысл канона, изнутри проникнуть в него, как сгущенный разум человечества» 18, 104]. Путь к канону лежит через формульное мышление. В качестве же канонических формул могут выступать и сюжетные мотивы, и жанровые формулы, канонизированные персонажи и структурные элементы. Словом, конкретные средства разнообразны и весьма индивидуальны (в этом легко убедиться, сопоставив кантату и симфонию-действо), но направленность остается общей, связанной с постижением «сгущенного разума» и высшей человечности. В этом истинный высокий смысл обращения обоих композиторов к религиозной тематике. ЛИТЕРАТУРА 1. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. |