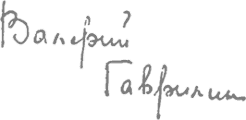Коваль Р.
Родной столь многим, столь разным…
/ Р. Коваль // «Этот удивительный Гаврилин…» : [сборник]. – СПб., 2008. – С. 410-417.
|
Коваль Р.
Родной столь многим, столь разным…
/ Р. Коваль // «Этот удивительный Гаврилин…» : [сборник]. – СПб., 2008. – С. 410-417.
...Прошли пять лет нашей жизни в
Америке. В конце января 1999 года, как гром среди ясного неба,
обрушилось известие – Валерий умер. Да как же это? Ведь он на десять лет
моложе нас! Умер дорогой человек, мироздание изменилось, обеднело.
Наташа Гаврилина и Яша Бутовский присылали нам статьи, посвященные
памяти Валерия, книги, выходившие одна за другой, компакт-диски... С
чувством боли и нового пристального внимания мы вслушивались в музыку
Гаврилина, вчитывались в книги «О музыке и не только...», «Этот
удивительный Гаврилин...», «Слушая сердцем...», в статьи Татьяны
Дмитриевны Томашевской, Виктора Максимова, Альбины Шульгиной, Юрия
Белова, Александра Тевосяна, Андрея Золотова и многих-многих других.
Если раньше мы видели Валеру в бытовом общении, изнутри нашего
дружеского круга, то теперь он предстал перед нами в полном своем
масштабе, как важное явление русской музыкальной культуры и
общественного сознания.
Самые главные новые «открытия» Валерия как человека и музыканта у меня
оказались связаны с его летучим, на отдельных листочках, дневником. Мы
многое знали – как умен, остроумен, любознателен, как тонко чувствует,
как сострадателен, но тут все это предстало в разительной прямоте и
силе. И еще – как литературно одарен. Нет, не стихи поразили, а
подслушанные на улице диалоги, воспоминания детства (потряс не фрагмент,
а законченная повесть, уместившаяся в двух абзацах: «Песни ранние, песни
райские»). Не могу скрыть, что некоторые желчные шутки Валерия глубоко
огорчили меня. Я думала: лучше бы Валерий не писал этого, не играл так
словами («ребе-владельческое общество, ребе-торговец», «Секретарь
Мойшенистка» и т. п.). Жаль, но тут уж ничего не поделаешь. Не
исключено, что кто-то именно за эти «шуточки» будет особенно ценить
Гаврилина, ухватится за них, не заметив другого: «Я националист – я
люблю все нации». Ухватятся те, кто свою истерику и ущербность обряжают
в какую-то, ну, совершенно исключительную любовь к отечеству, которое, в
свою очередь, совершенно, совершенно особенное. Все – особенные, в этом
и интерес. (Бросается в глаза, что люди, впавшие в состояние такой
душевной горячки, забывают следовать программе ежедневного будничного
патриотизма, жестко сформулированной умным русским человеком: «Не
пакости – здесь на самом деле употреблен гораздо более точный и грубый,
неотразимый глагол, – в парадной, почини забор»).
Все-таки я постараюсь преодолеть это новое знание о Валерии и вернуться
в простоту нашего тогдашнего общения, когда мы были друг для друга Саша,
Валера, Яша, Наташа и Наташа, Роза.
Мы познакомились в самом конце 50-х годов, вскоре после женитьбы Валерия
на Наташе Штейнберг – она была нашей соученицей по историческому
факультету Ленинградского университета, чуть младше нас с Сашей. Валерий
казался в ту пору совсем мальчиком, был застенчив, молчалив. Меня
немного озадачивал этот союз – красивая, решительная, полная энергии
Наташа и рядом – паренек с лицом деревенского пастушка. Бросались в
глаза совсем детские, пухлые губы. Да, мы знали, что Валерий учится на
композиторском факультете консерватории. Дело нешуточное. Правда,
однако, такова, что тогда я ничего не поняла в том мальчике, о котором
Наташа как-то сказала: «С ним всегда было интересно, когда ему было
семнадцать лет – тоже». Да и в молчаливости Валерия были виноваты мы –
шумные гуманитарии. Мы были теми «городскими», которых «деревенский»
Валерий чуть побаивался, не понимал и потому смущался. Возможно, что
решающее значение на первых порах имела и разница в возрасте.
Когда Валерий, преодолев скованность, разговорился, то впечатление было
таким: до чего приятный человек, какая свежесть взгляда, свежесть и
неожиданность формулировок! Как-то само собой получилось, что с течением
времени он неизменно оказывался в центре нашего внимания. Валера
вовлекал нас в свои интересы, наблюдения, заботы. Помню время, когда он
читал Глеба Успенского, том за томом, всего. (Я думаю, что Г. Успенский
очень многое определил в своеобразном народничестве Валерия). Помню, как
восхищенно говорил о божественном даре – человеческом голосе, с которым
не может сравниться ни один инструмент. Увлеченный собственной
этимологией, Валерий хотел найти доказательство того, что слово «петь»
иностранного происхождения, а на Руси издревле вместо «петь»
употреблялось «вопить». С печалью говорил о том, что музыка –
развлекает. Такова реальность. И рвался к тому, чтобы она была равна
хлебу насущному, облагораживающему хлебу духовному. Часто Валерий
жаловался, каких неимоверных трудов стоит добиться того, чтобы твоя
музыка была исполнена... Наверное, подобное впечатление испытывали
многие – Валерий в общении очаровывал. Очаровывало то, как он говорил.
Сжато, умно. По-своему. Очаровательно было выражение его лица, когда он
шутил. Брови взлетали, глаза, чуть вытаращенные, смотрели изумленно,
по-детски, щеки подтягивались кверху, круглились скулы, рот круглился в
ликующей улыбке. И – голос. Мягкий, с уклоном в баритональность. Рискну
сказать – голос тембровой и интонационной правды. Порой, ища точного
выражения, Валерий слегка заикался, гудел, но и это не только не
портило, но украшало его речь, было видно – человек думает.
Тридцать с лишним лет (до нашего отъезда в Америку вслед за дочерью и
внуками) жизнь Гаврилиных и наша шли как бы параллельно. С ними нас
познакомили Яша и Наташа Бутовские. И оттого, что Яша – наш ближайший
друг, свет в окошке, и отношение к которому давно переросло в
родственность, этим оттенком родственности окрасились наши отношения с
Валерой и Наташей. Обычно мы встречались в доме Бутовских. Часто – на
концертах в Малом зале Филармонии, в Большом зале или Капелле, где
исполнялась музыка Гаврилина. Помню дрожь, мороз по коже, когда Зара
Долуханова пела «Русскую тетрадь», с неслыханными взлетами голоса –
вскриками – в изломах страдания.
Мы, обладатели не певческих, домашних голосов, годами пели песни
«Заливала землю талая вода» и «Сшей мне белое платье, мама». А песня
«Два брата» – в полном смысле грандиозная трагедия. В малой форме
нескольких куплетов. До самой глубины человеческой драмы дошел здесь
Гаврилин. Мы слушали песню и плакали.
И вот «Перезвоны» в исполнении мининского хора в Большом зале
Филармонии. Помню пронзительное чувство: на какую немыслимую высоту
поднялся Валерий! Как всеохватна его молитвенно-скорбная музыка. Для
меня «Перезвоны» – это общий образ России с ее прошлым, настоящим и,
может быть, будущим. Казалось, что и хор Минина, и Валерий, выходивший,
пошатываясь, раскланиваться, да и вся публика были в полуобморочном
состоянии. Здесь не было и капли опьянения музыкой: было общее
потрясение. Я подошла к Наташе и сказала: «Многие художники
удовлетворяются вторым или третьим уровнем глубины. А "Перезвоны" –
какой-то окончательный, десятый, что ли, ее уровень».
Валерий был несчастно-счастливым человеком. Несчастным потому, что
страдал от всяческих неустройств и безобразий нашей жизни – жизни
провинции, деревни, «столичного» Ленинграда. Он не позволял себе никакой
внутренней обороны от ужасов жизни. Не на пустом месте развилась его
болезнь сердца. Помню, как однажды мы шли с ним по Литейному. Начало
80-х годов, самый расцвет брежневского бездорожья (я для себя называла
это время «сталинизм в шлепанцах»). Валерий переживал приступ какого-то
смертельного отчаяния, он говорил о зловонии, разлитом в воздухе,
ощущал, задыхаясь, присутствие в нашей жизни злобной мертвящей стихии,
которую называл «страшенной бабой».
Да, но он был и счастливым человеком. Он знал счастье любви, нежной
приязни, нежного дружества. И музыка: маленький мальчик, что восхищенно
касался клавишей и перерисовывал ноты, Гаврилин стал своим в
пространстве мировой музыки.
Была такая новогодняя ночь в квартире Гаврилиных на первом этаже дома,
на углу улицы Пестеля и Литейного. В очередной раз раскрылись наши глаза
на него. Валерий импровизировал на рояле, неистовствовал, не было в
отдельности человека и инструмента. Было невероятное явление:
человекорояль. Был счастливый вихрь, какой-то золотой дождь музыки.
Запомнились музыкальные шутки: Валерий начинал что-то очень серьезное,
торжественное, чуть ли не Баха, и, развивая музыкальную тему, приводил
ее к чему-то, что звучало легкомысленно и элементарно, вроде «Во саду
ли, в огороде». Все без исключения были буквально влюблены в него,
очарованы им.
Однажды мне пришлось убедиться в том, что слава Гаврилина
распространяется сама собой, захватывая так называемую провинцию. В
самом конце 60-х годов я привезла в Новосибирский Академгородок выставку
«Сто ленинградских эстампов». Устраивать экспозицию помогали «мэнээсы» –
младшие научные сотрудники и их жены. Мы подружились. Как-то я упомянула
имя Гаврилина. И тут одна из женщин, преподавательница музыкальной
школы, воскликнула: «Как, вы знакомы с Гаврилиным!? С самим Гаврилиным!
Да вы знаете, как мы гоняемся за его нотами? Их так трудно достать. Да
мы своих детей на Гаврилине учим. А не могли бы вы упросить его прислать
нам что-нибудь?»
Вернувшись в Ленинград (Гаврилины жили в другом доме на Пестеля, высоко,
в квартире с балконом), я отправилась к ним, чтобы рассказать о том, как
его знают и любят... Просьбу новосибирской учительницы Валерий выполнил.
Вот тогда-то он и задал мне ошарашивающий вопрос: «Роза, почему ты
выглядишь так молодо?» Мне было сорок. Смотрит внимательно. Выражение
взгляда – то ли упрек, то ли одобрение. Упрек, скорее. Пробормотала
что-то в свое оправдание: не моя, мол, заслуга – бабушка, мама... Это
теперь я понимаю, что стояло за вопросом. Мог ли Валерий забыть
двадцатилетних-тридцатилетних вдов, среди которых прошло его детство в
деревне, где изработавшиеся сорокалетние женщины выглядели на все
семьдесят?
Да, Валерий щедро одаривал нас. Как это бывает с любимыми поэтами,
великими книгами, фильмами, факт его музыкального и человеческого
присутствия в нашей жизни стал фактом нашей личной биографии.
Валера, что сделать для тебя, как отблагодарить тебя?
Нельзя сказать, что мы бездействовали, – наша бывшая землячка пианистка
Таня Шраго, певица из Литвы Данута Милейка, пианистка из Баку Роза
Шифрин, американская пианистка Лиз Паркер участвовали в концертах, тебе
посвященных. Я рассказывала о тебе людям, собиравшимся в разных домах
Бостона, в том числе в средоточии русской эмиграции, в доме Маргариты
Ивановны Зарудной-Фриман; была передача по русскому радио из Нью-Йорка с
выступлением Дануты Милейки и Татьяны Шраго. Мало? Да, мало. Тот ли
размах нужен?
Сейчас в музее Гугенхайма в Нью-Йорке открыта выставка «Россия!» –
именно так, с восклицательным знаком. Наше родное, знакомое с детства:
Венецианов, передвижники, русская икона, авангард и самое последнее по
времени, что было сделано русскими художниками. Новый Свет очередной раз
открывает для себя Россию. А ведь Гаврилин – это и есть Россия. С
восклицательным знаком. Можно ли пройти мимо такого богатства? Гаврилину
еще предстоит завоевать Америку, как ее завоевали Чайковский (его
исполняют в самых торжественных случаях и так часто, что я не удивлюсь,
если услышу от какого-нибудь американца: «Чайковский – американский
композитор»), Римский-Корсаков, Рахманинов, Прокофьев, Шостакович.
Кончу я тем, что расскажу о своей попытке отблагодарить Валерия при
жизни. Для него, в его честь я соткала гобелен «Орфей, играющий на
арфе». (Мы были чудовищно бедны, у меня не было хороших материалов ни
для основы, ни для утка. Я собирала всюду – побиралась – пеньковый
шпагат, отстирывала его и сама красила.) Орфей сидит на скале, голова
экстатически запрокинута назад – я использовала профильное изображение
со знаменитого краснофигурного кратера середины V века до нашей эры,
хранящегося в Берлинском музее. Жмется к подножию скалы укрощенный,
роняющий слезы дракон (признаться, эта выдумка – роняющий слезы
устыдившийся дракон – очень забавляла меня). А вокруг Орфея летают по
воздуху, как образ благоухания, как образ его музыки, многочисленные
цветочки. Цветочки – как птички. Пришли они в композицию из любимейшей
книги – «Фьоретти» (что и означает «цветочки») Франциска Ассизского. В
моем ощущении Валерий Гаврилин по духу, по душевной нежности, по
отзывчивости на всякое страдание – родной брат Святого Франциска.
2005 г., Бостон, США
|