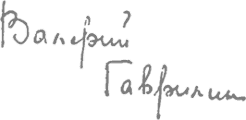 |
||
|
|
||
 |
||
В.
Воскобойников. |
В.
Воскобойников. Уверен, что о композиторе Валерии Гаврилине кто-то из музыковедов уже замышляет монографию, и где-нибудь в издательских планах обозначено его имя. Маститые музыкальные критики, кандидаты и доктора искусствоведения разложат по полочкам его находки и открытия, дадут им раз и навсегда надлежащие термины. Это произойдет через сколько-то лет и, видимо, довольно скоро. Моя задача скромнее... Это просто попытка подумать об одном из значительнейших явлений советской музыки. Утром 1 Мая 1961 года с компанией приятелей я шел по праздничным улицам города к Валерию Гаврилину, чтобы съесть у него дома яичницу. Почти все в нашей компании были из музыкально-педагогического училища, один я — человек случайный, кончивший техникум, который жители ближайших к нему улиц любовно называли нефте-мазутной академией. Старшим в компании был Виктор Никитин. Думаю, что его судьба — становиться старшим в любой компании, такой уж он основательный и одновременно веселый человек. Виктор и предложил план нашего шествия по городу. С нами были девушки, и, чтобы дать им отдых, он наметил несколько коротких привалов, где нас заодно могли поить чаем и кормить супом. Первым по этому превосходному плану предполагался привал у Валерия Гаврилина. День был блистательно-ярким, на крышах перекликались репродукторы, они передавали то марши, то бодрые песни. Мы много шутили, девушки наши без устали смеялись, а Виктор Никитин отдельно для меня, как для человека недавнего в их компании, рассказывал о Валерии. Совсем недавно они жили вместе в интернате музыкальной школы при консерватории, а сейчас Валерий был студентом той же консерватории. — Ты сразу почувствуешь, какой он необыкновенный талант! — уверял Виктор. И, честно говоря, я слегка разочаровался, когда мы, наконец, пришли. Я ожидал увидеть нечто на нас не похожее, отстраненное от обыденности. Если не фрак, не галстук-бабочку, то, по крайней мере, блузу с легким шарфом, как у поэтов начала нашего века. А Валерий выглядел очень обыкновенно. Да и жил он в обыкновенной коммуналке. Но лицо его запомнилось сразу — такое открытое и улыбчивое, что я было подумал: он ждал нас с раннего утра, не мог дождаться, а через несколько минут вдруг выяснилось, что наш приход был для него неожиданностью. Улыбчивой добротой отличалось и лицо его жены. А когда она показала нам полугодовалого малыша, то его лицо тоже показалось мне веселым и добрым. И вообще у меня осталось с того дня стойкое убеждение, что всем нам, а мне — в особенности,— хозяева будут всегда рады и будут счастливы, если все мы, а я — в особенности! — станем постоянно приходить к ним в гости. Лишь потом, когда я хлебнул житья в коммуналках, и после того, как у меня родился собственный ребенок, я понял, как много нужно внутренней доброжелательности, чтобы оставить внезапно нахлынувшую толпу малознакомых гостей, и меня — в особенности! — в таком приятном заблуждении. Позднее я узнал также, что, не имея возможности держать инструмент в коммунальной квартире, Валерий с раннего утра до девяти занимался на верхних этажах консерватории, для чего уходил из дома чуть ли не среди ночи, и в тот праздник он, наверное, мечтал наконец отоспаться... С тех пор прошло четверть века. Многие из нашей компании растеряли друг друга, про них мне только и известно, что кто-то женился, а кто-то развелся. А Виктор Никитин давно уж преподает в том самом музыкально-педагогическом училище, в котором учился. И вот, тоже весной, но уже совсем недавно, один мой товарищ, ставший за последние годы известным в стране драматургом и знавший, как мне казалось, волшебное слово к любому театральному администратору, вдруг растерянно сообщил по телефону, что так и не смог достать билеты в Большой зал филармонии на исполнение «Перезвонов» Валерия Гаврилина. Какие произведения искусства становятся необходимыми своему народу? Становятся явлением национальной культуры? В чем тут критерии? В популярности? Люди, выпрашивающие билетики еще на платформе метро? Аплодисменты? Все это было в вечер исполнения «Перезвонов»... Но сколько звезд вспыхивает на небосклоне известности лишь для того, чтобы следующее поколение навсегда вычеркнуло их из памяти. Популярность необходима, но недостаточна. Надо, видимо, чтобы встреча с произведением поднимала зрителя, слушателя, читателя еще на одну ступеньку в бесконечной лестнице познания себя и мира. Чтобы человек хоть на несколько минут, часов или дней ощутил головокружительное счастье от общности своей с другими людьми, с человечеством, и при этом не растворился бы в толпе одинаково чувствующих, а сохранил ощущение своей личности, своей «единственности». И чтобы произошло все это, должны быть в произведении не только высокие чувства и глубокие мысли, но и новая форма выражения этих мыслей и чувств. Примерно так я думал сразу после исполнения «Перезвонов», когда слушатели раз за разом вызывали автора. Слушателям было ясно: то, что исполнялось сейчас при них, станет новым явлением в нашей национальной культуре. О первой встрече ребенка с искусством чаще говорят как о столкновении: жил человек глухим и слепым, но столкнулся с прекрасным, внезапно прозрел и услышал. Валерий Гаврилин справедливо считает, что музыкальное поле, подобно магнитному полю Земли, пронизывало его с рождения. А родился он в Вологде за два года до войны — в северном этом краю крепко жили тогда русские напевы. Родители его были педагогами, в первые месяцы войны отец ушел на Ленинградский фронт политработником, погиб под Лиговом. Валера жил уже в это время в деревеньке Перхурьево. Мать его работала директором детского дома в большом для тех мест селе Воздвиженье и одновременно была секретарем парторганизации сельсовета. Без музыки житель северной деревни не совершал ни одного важного действа — песни на покосах, песни, когда пряли и когда собирались в чью-нибудь избу на беседу. В те годы пели в основном женщины — и не потому, что среди мужчин не было любителей пения, просто мужчины из села ушли на фронт. И навсегда сохранилось в памяти ребенка пронзительно-острое чувство бабьего несчастья, которое проявлялось в северных русских деревнях в горестном музыкальном обряде — причитаниях, плачах... В одном из интервью Гаврилин скажет, что первой музыкой, которую он слышал, были причитания по погибшим мужьям и братьям. Став человеком взрослым, думающим, Валерий Александрович не раз еще изумится той удивительной гармонии, с которой вписывалась музыка в быт и бытие сельского жителя. Пение помогало пережить радость и страдание, справить свадьбу, отметить праздник и проводить в последний путь; оно никогда не было назойливым — душа человеческая пела лишь в те мгновения, когда ей это было действительно необходимо. Однажды мать Валерия купила для своего детского дома гармошку. И сын, конечно же, пробовал на ней поиграть. Мать отнеслась к этому неодобрительно. Она хотела, чтоб сын выучился на ветеринара. Профессия эта была уважаема, многие сельские интеллигенты мечтали тогда о ней для своих чад. Печали северного российского села тех лет подробно описаны в прозе, которая сегодня стала классикой советской литературы. Не обошли трудные годы и семью Валерия Гаврилина. Мать его была арестована и осуждена. Впоследствии ее реабилитировали, но на несколько лет мальчик остался сиротой. В Вологду в детский дом его привезла крестная. В небогатой жизни тех лет детские дома были почти на полном самообеспечении. Дети сами вели хозяйство, которое их кормило — ухаживали за коровами, свиньями, косили сено, мыли полы и окна, сажали огородик. Школа была за пять километров, чтобы попасть на занятия, вставали в половине седьмого... Сейчас Валерий Александрович считает эту жизнь лучшей системой воспитания ребенка. Ибо характер человека во все времена воспитывался делом и никогда — праздностью. Здесь, в детдоме, Гаврилин впервые увидел рояль и ноты. Ему понравилось, нажимая на клавиши, извлекать звуки, которые сами порой сливались в неведомые мелодии. А ноты он любил рисовать, еще не понимая их смысла. Естественно, Валера записался в детдомовский хор и в оркестр народных инструментов, где и произошла первая счастливая для него встреча. Татьяна Дмитриевна Томашевская учила детей в городской музыкальной школе и одновременно вела музыкальные кружки в детском доме. Ей попался на глаза тощий, недавно привезенный из деревни Валера Гаврилин. Ничем он не выделялся, кроме того, что радостно пел в хоре и счастливо импровизировал на рояле, который впервые увидел несколько месяцев назад... В детском доме существовало строгое правило: отстающим в учебе в кружках заниматься не разрешали. Валера Гаврилин делал уроки, потом отправлялся на хозяйственные работы, стараясь нигде не отстать от товарищей, чтобы иметь право вечером, хоть ненадолго, приблизиться к роялю. Несколько зимних месяцев Татьяна Дмитриевна Томашевская ходила в детский дом через весь город, и это было не просто работой, а радостью, смыслом ее существования. Ибо когда тощий детдомовец, которого она учила азам музыкальной грамоты, садился за рояль, ей казалось, что пальцы его, нажимающие на клавиши, напрямую подсоединены к душе, а душа — к миру и к царящей в этом мире музыке. Весной в Вологду приехал доцент Ленинградской консерватории Иван Михайлович Белоземцев — он был председателем государственной комиссии на экзаменах в музыкальном училище. Татьяна Дмитриевна с волнением решилась показать ему удивительного детдомовца, совсем недавно узнавшего о существовании нот, но уже создавшего собственное произведение на стихи Гейне. Доцент Белоземцев, прослушав импровизации мальчика, сказал, что сделает все возможное и, действительно, сделал: летом из Ленинградской консерватории пришел Гаврилину вызов. Его одели понарядней, выдали сто рублей (сейчас это было бы десять) и проводили на поезд. Он ехал в новую жизнь с тревогой и мечтою в душе. В Ленинграде поселили его в пустом общежитии, в районе Автова. Две недели, оглушенный жизнью большого города, он ездил на Театральную площадь сдавать экзамены, жил на выданную сумму. Непривычный к тратам, основную часть ее он проел быстро, и к первому сентября не осталось у него даже на трамвай. Так что учиться он пошел пешком. Сейчас можно удивляться проницательности консерваторских педагогов, которые ставили ему на приемных экзаменах удовлетворительные оценки — за три-четыре месяца детдомовских занятий музыкой при любом таланте вряд ли можно было получить глубокие знания. И все-таки утром первого сентября он шел по городу победителем! Но дальше дело пошло далеко не так гладко. Я не хочу сказать ни одного дурного слова о детях, для которых музыка — профессия наследственная, каждая минута жизни которых взлелеяна бабушками и мамами. Среди них немало самозабвенных тружеников и подлинных дарований. Профессия музыканта не терпит ленивых так же, как и абсолютно бездарных. Многих уже с пяти-шести лет натаскивают сначала родственники, а потом приходящие платные педагоги. Первое сентября в музыкальной школе-десятилетке при консерватории для них был день особенно волнующий. Они пришли в праздничных костюмах, заранее отутюженных мамами, с дорогими цветами, приобретенными на рынке. Голодный подросток, прошедший пешком через весь город, одетый нарядно лишь по понятиям вологодского детдома, да к тому же остриженный наголо после медицинского осмотра, выглядел среди ликующих этих детей чужим. Весь этот день, пока длились уроки, Гаврилин казался себе изгоем. И лишь к вечеру, попав в консерваторский интернат, открывшийся тоже первого сентября, смог отдохнуть душой. В интернате многое напоминало родной детдом. Та же старая мебель, те же казенные кровати и лампочки без абажуров... Вскоре среди интернатских выделилась особая группа «одержимых». Как говорил Виктор Никитин, все они были чем-то похожи — небольшого роста, худенькие, талантливые. Днем в классах шли обычные уроки: физика, математика, литература, а допоздна вечером и с пяти утра ученики занимались музыкой. Нянечки гнали их наверх спать, но они запирали класс шваброй, притихали, а когда нянечки уходили домой, начиналось музицирование. Соседом по спальне у Гаврилина был Юра Темирканов, другим соседом — Юра Симонов, часто к ним присоединялся Боря Гутников. Его мать работала здесь же кастеляншей. В те годы магнитофоны оставались еще громоздкими и чересчур дорогими сооружениями, долгоиграющих пластинок почти не было, да и проигрывателя не было в интернате тоже. Зато были ноты, и было неистовое желание все исполнить и все услышать самим. Чтобы познакомиться с новыми произведениями Шостаковича и Прокофьева, они ходили в библиотеку мыть пол. Трое мыли, двое — переписывали ноты, которые им просто так не давали. За год «одержимые» переиграли все симфонии Бетховена, половину его сонат, сонаты Гайдна. Что они только ни исполняли в те месяцы — сами, неумело, помогая друг другу и поправляя друг друга. И хуже позора не было, чем на вопрос: «Знаешь ли третью сонату Гайдна?» — ответить: «Не знаю». Такой человек немедленно шел за нотами и исполнял ее сам для себя. Иногда они получали билеты в Кировский театр, в оперную студию консерватории. Слушали оперы и балетную музыку с клавирами в руках — считалось, что иначе ее и слушать нельзя! Это было то счастливое объединение талантливых людей, где общность не подавляет личности, а помогает ей раскрыться. В каждом из них уже прорисовывалась индивидуальность. Юра Симонов (ныне главный дирижер Большого театра) создал интернатский симфонический оркестр. Другой Юра — Темирканов (ныне главный дирижер Театра оперы и балета имени Кирова) просил нянечек ежеутренне будить его в пять-шесть часов, чтобы успеть поиграть на скрипке. Володя Семенюк (теперь хормейстер в знаменитом хоре Минина) уже тогда пытался сколотить хор из своих приятелей. Валерия Гаврилина все они скоро признали как «профессора» гармонии. Их кормили в те годы скудно — на пять рублей (то есть пятьдесят копеек) на день. Им было по пятнадцать-шестнадцать лет, когда чувство голода переживается особенно остро. И они на всю жизнь сохранили в памяти от той поры два главных впечатления: чувство музыки и чувство голода. Но, видимо, радость постижения музыки была острее, потому что все они, бывшие интернатовцы, помнят то время как самое счастливое в их жизни. Как часто мы обольщаемся скорыми и мнимыми успехами, принимая их за решительные победы, и как, порой, наоборот, временные неудачи застят нам свет, выглядят крушениями судьбы. И как часто мы позволяем себе думать, что жизнь наша зависит от Великого Случая. Наверно, это так — наверно, поворот судьбы зависит и от случая, как росток зависит от семени. Однако семян на землю падает много, да не все прорастают. Прорастают они лишь на подготовленной почве. Если же почва готова, то и зерно найдется — ветер жизни обязательно принесет его. И стоит всмотреться в судьбу, повороты которой, казалось бы, состоят из великих случайностей, как, к удивлению своему, обнаруживаешь ее абсолютную неслучайность. Можно подумать: как повезло — только что жил в деревне, куда, ни одна машина не добиралась, потом воспитывался в детдоме — а уже студент знаменитой консерватории! Могла голова закружиться, сразу поугас бы духовный рост, появилось бы внешнее — самоуверенность, апломб полуобразованного человека. На таком повороте ломались многие судьбы. Но первые консерваторские годы принесли Гаврилину мучительную неуверенность в себе, в том, что он пытался делать. Он в душе слишком высоко ставил планку, чтобы радоваться достигнутому. По-прежнему легко давались ему любые задания по гармонии. А так как за прошлые века великие композиторы создали океан мелодий, то, беря из разных его мест по капле и смешивая, можно было выдавать это за свое и даже прослыть новатором — как многие и делают. Но Гаврилин так делать не мог. Уже на первом курсе появилось у него ощущение, что развивать традиции великих музыкантов он лично должен как-то иначе, не перенося рабски их достижения в сегодняшний эстетический мир. В середине консерваторского обучения будущие композиторы получили задание — написать произведения для вокала. Гаврилин долго тянул. — Учтите, вы принуждаете меня поставить вам двойку,— говорил педагог. А двойка, даже тройка по специальности в творческом вузе означает автоматическое исключение. (Кстати, если бы так было во всех вузах — каких бы отличных специалистов мы имели!) Первую музыку Гаврилин сочинил в детдоме — на стихи Гейне «Красавица-рыбачка». Тогда он только что узнал значение нот. Когда позднее в Ленинграде он впервые увидел певца, вставшего в неестественную позу, ему стало смешно. Уж очень это отличалось от того естественного, свободного пения, которое он привык слышать в деревне и которое считал настоящей музыкой. И теперь, в консерватории, он после долгих поисков вновь вернулся к Гейне. Позднее понял, почему именно к нему. Поэзия Гейне удивительно близка поэзии народной. Педагог, взглянув на его сочинение, тоскливо поморщился и посоветовал студенту всерьез подумать о своем будущем. Студент пришел вечером домой, подумал и утром принес заявление с просьбой перевести его на музыковедческое отделение. Это было в начале шестидесятых, в годы моего первого знакомства с Валерием Александровичем. Я уже писал о том, что он жил в коммуналке. А существовать в коммуналке молодому музыканту с новорожденным ребенком особенно трудно. Ребенку нужна тишина, а музыканту — возможность заниматься, то есть создавать, хотя и музыкальный, но шум. Тупиковая ситуация! А тут еще перевод с композиторского на музыковедческое отделение, который многие считают крушением творческой судьбы... Возможно, у кого-то творческий напор, придавленный такими обстоятельствами, мог бы и угаснуть. Но для Гаврилина перевод органично вписался в линию его жизни. То, что считалось крушением, оказалось счастливым поворотом. Педагоги Наталья Львовна Котикова и Сарра Яковлевна Треблева увлекли его в фольклорные экспедиции — на русский Север, на окраины нашей области. Тут-то он понял, чего ему не хватало в консерваторских и филармонических залах. Заново открыл для себя богатейший мир — стихию народного творчества. Та музыкальная основа, которая пронизывала его с первых дней жизни — колыбельные, шуточные, детские дразнилки, причитания, свадебные, все, что подзабылось за годы детского дома, школы-интерната, что скромно до поры до времени молчало, придавленное пластом западноевропейской музыкальной культуры — все в нем вдруг возродилось, вспыхнуло. Озарение пришло почти мгновенно — Валерий Александрович помнит место его и время. В 1962 году их фольклорная экспедиция забралась в глухую деревню, в район Подпорожья. Вечером в избу собрались женщины, самой младшей было за пятьдесят. У всех — мужчины погибли в войну. Спели при керосиновой лампе классику — календарные, обрядовые. А потом, выложив на стол огромные коричневые руки с глубокими трещинами, запели свою любимую «Сижу, на рояле играю». Песня была наивна, прежде назывались такие «жестоким романсом», слова в ней немудреные, да и рояль никто из поющих в натуре не видел, но в этом их пении проявилась лирическая мечта о иной, прекрасной жизни. А как эти женщины напоминали его родных баб Нюр и теть Анют, которые также собирались вечером вместе с мамой и затягивали «Хаз Булат удалой»! Валерий Александрович считает, что именно с этого вечера и начал он складываться как композитор. С этого момента в сознании Гаврилина стала формироваться основная концепция его будущей музыки. Говоря несколько огрубленно, Валерий Александрович решил соединить «высокую» профессиональную музыку, со всеми ее великими достижениями, и те области народной культуры, которые лишь по недоразумению долгое время считались «низкими». Из ощущений и мыслей, смутно бродивших в тот вечер в душе студента Гаврилина, стали складываться контуры будущей «Русской тетради». Он окончил музыковедческое отделение и стал собираться в город Ош, куда его распределили. Но — вот вам опять удивительный и закономерный поворот судьбы! — тот же педагог, который просил его «серьезно подумать о будущем», неожиданно позвонил и предложил срочно зайти в консерваторию. На последних курсах Гаврилин написал вокальный цикл на стихи Вадима Шефнера, струнный квартет, симфоническую сюиту, а «Первая немецкая тетрадь» на стихи Гейне (начало ей положило как раз то самое произведение, из-за которого Гаврилину и было предложено «серьезно подумать») исполнялась с успехом в Союзе композиторов. И вот теперь тот же педагог попросил Гаврилина показать «Немецкую тетрадь» Шостаковичу, недавно вновь ставшему профессором консерватории, а Шостакович советовал немедленно поступать в аспирантуру. Для этого, правда, надо было за месяц сдать экстерном все экзамены по композиторскому отделению — Гаврилин ведь закончил музыковедческое — и сразу после этого сдавать экзамены аспирантские. Бывают такие счастливые недели радостного напряжения воли, когда человек делает то, что в нормальных условиях ему не под силу и за год. К осени Гаврилин стал аспирантом. Музыковед С. М. Хентова в своей книге цитирует статью, в которой Шостакович обращается не столько к читателю, сколько к талантливому ученику: «Я восхищаюсь и „Немецкой тетрадью" и „Русской тетрадью" Гаврилина, но мне кажется, что при его даровании мы вправе ожидать от этого автора более масштабных произведений». Эти слова многое говорят об отношениях двух композиторов в то время. Мой рассказ подходит к самому трудному и опасному месту. Можно говорить об эпизодах жизни композитора, но пересказывать его музыку вряд ли возможно. Да и как изобразить то состояние сопереживания с героями, например, вокально-симфонической поэмы «Военные письма» или баллады «Два брата», которое охватывает слушателя во время их исполнения, очищает и просветляет его душу. «Русская тетрадь» была написана композитором в те месяцы, когда он особенно много думал о том, как писать дальше, как сделать, чтобы слушатель почувствовал, что эта музыка была в мире словно всегда, и автор лишь перенес ее из вечности в мир реальных звуков. То были мучительные попытки слить народную музыкальную культуру, которая сидит в каждом из нас, о чем многие горожане и не догадываются, с высшими достижениями современного симфонизма. В 1965 году «Русская тетрадь» была исполнена в Москве на пленуме Союза композиторов. Об этом концерте уже на следующий день знала вся музыкальная общественность столицы. Газеты называли исполнение триумфальным. Вскоре молодой, еще недавно мало кому известный композитор стал лауреатом Государственной премии РСФСР имени М. И. Глинки. К этому времени как раз и относятся слова, сказанные Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем о Гаврилине. «Масштабных» произведений от него ждал не один Шостакович. Так было всегда: композитор, начав с небольших форм, постепенно добирался до симфоний и опер. Это путь привычный и закономерный. Но Гаврилин поступил иначе. Крупные произведения Валерий Александрович представил через несколько лет. Это были «Скоморохи» — «представление и песенки из старинной русской жизни» и вокально-симфоническая поэма «Военные письма». А очень скоро после них — вокальный цикл «Земля», баллада «Два брата». И во всех них присутствовало то ощущение масштабности жизни, к которому призывал Шостакович молодого композитора, но проявлялось оно за счет проникновения в глубины человеческой души. Формы оставались отнюдь не масштабными. Профессор, доктор искусствоведения А. Сохор, говоря о том, что принес Гаврилин в мир современной музыки, назвал и новый жанр, созданный композитором — песенно-симфонический. Но «самое приметное и существенное свойство музыки Гаврилина,— по мнению профессора,— органичная, совершенно самобытно выраженная народность... Его герои — это чаще всего люди современной русской деревни. В обыкновенных с виду людях он находит и словно высвечивает миром доброго таланта такие высокие нравственные качества, как душевная чистота, сила и цельность чувства, верность дружбе и любви — до конца, „до гроба". И рисует их в музыке любовно, с глубоким пониманием каждого движения души, с искренним сочувствием, восхищением или состраданием». Так же, как сегодняшние ученые чаще всего совершают открытия на стыке наук, так и открытие Гаврилина произошло на «стыке» песни, симфонии и драмы. Не зря некоторые свои последние произведения он отнес к жанру хоровой симфонии-действа. В начале «Военных писем» сын дотошно пытается расспросить мать о погибшем отце-воине. «Уезжал он зимой или летом? Что сказал он в последнюю минуту?» Дальнейший рассказ — это драма двух судеб, двух сердец, где трагическая песнь, как и в жизни человеческой, может перемежаться с веселой незатейливой детской дразнилкой, а вслед за игривой «милый мой дружок» следует песня, полная тоски по любимому, робкой надежды и страха — «не приходила ль почтальонка?». Драматическая история любви двух простых сердец, деревенских парня и девушки становится в поэме историей целого поколения советского народа, у которого молодые отцы погибли на войне, а молодые матери, преждевременно старея, подняли на ноги детей-полусирот. Слова «талантливо» и «ново» в искусстве объединены тайной связью. Наверно, были и до Гаврилина попытки построить произведение на основе городского романса и народного пения. Возможно, их выслушивали даже в больших залах и снисходительно аплодировали, но для того, чтобы новое вошло в искусство, оно должно быть талантливо. Валерию Гаврилину удалось обобщить, поднять жанр народной песни до уровня великих достижений симфонизма. При этом слушателя не покидает чувство, что услышанная им песня существовала в народе всегда, что композитор всего лишь записал ее простую мелодию и незатейливые слова в знакомой ему деревне. Как тут не вспомнить фразу, что гениальное всегда просто. Раньше я с некоторой настороженностью относился к письмам от читателей и слушателей. Действительно, есть группа чрезмерно восторженных людей, кричащих «браво» любому случайному явлению в искусстве, так же, как есть группа, отвергающая подряд все новое. Люди, пишущие Валерию Гаврилину, на таких не похожи. Их взволнованные письма полны раздумий о музыке и о жизни. «Я не имею никакого отношения ни к музыке, ни к балету, да и не пишу никогда писем. Но просто сегодня, Валерий Александрович, весь день я слышу музыку Вашего балета „Анюта" и почему-то не только балета, но еще к нему прибавились „Листки старинного альбома" (я слышала это в Филармонии, в исполнении Зары Долухановой, а потом несколько раз ставила пластинку дома). Так получилось, что подряд прошли три Чехова,— пишет после премьеры телевизионного балета „Анюта" литературовед Е. О. Путилова.— И вдруг — такая радость — Ваш балет! Полный музыки, наконец, музыки! Лирический, щемящий, уводящий в чеховский мир, где улыбаются сквозь слезы, где тоскуют о любви и мечтают о счастье. Музыки искрометно-озорной, веселой, да и вообще вмещающей в себя все — и озорство, и сатиру, и сентиментальность, и гротеск; музыки, создавшей балет и существующей, как произведение, которое, я уверена, доставит радость слушателю... К сожалению, мы включили телевизор, когда уже начался танец. Естественно, мы узнали тут же несравненную Максимову. Но и все ей соответствует. И режиссер, и балетмейстер создали интереснейшие образы, особенно удача — Модест Алексеич... И еще о Вашей музыке: Вы удивительно знаете и передаете мир уже ушедшей жизни, но музыка Ваша современна в лучшем смысле этого слова. Прошлое для Вас небезразлично. Вы им бесконечно дорожите, но говорите Вы о нем на языке современного искусства». «Только что была исполнена Ваша песня „Два брата". Изумительная вещь, я второй раз ее слышу и плачу. Какая красота, как свежа форма, как она естественна. Какие дивные переходы: в мелодии, от темы к теме, от куплета к куплету. Это — шедевр. Поверьте мне!» — пишет из Москвы композитор Георгий Свиридов. Я привел письма людей, работающих в искусстве. Но Валерию Александровичу пишут ветераны войны и труда, недавние студенты. Вот лишь одно такое письмо: О хоровой симфонии-действе «Перезвоны» газеты писали много, называя ее «сенсацией сезона», «украшением Ленинградской музыкальной весны 1984 года». Один из героев «Севастопольских рассказов» Толстого в последнюю минуту перед гибелью видит всю свою жизнь. Перезвоны» — такое же видение и осмысление жизни героем в ночь перед смертью. Первым исполнил «Перезвоны» знаменитый Московский камерный хор под руководством Владимира Минина. К премьере коллектив готовился около полутора лет, «выпевая» симфонию по частям: сначала четыре части, потом семь. Но еще прежде фрагменты из «Перезвонов» звучали в театре имени Вахтангова в Москве, когда М. А. Ульянов ставил спектакль «Степан Разин» по роману Василия Шукшина. Тема Степана Разина, а точнее — величественной души, в которой соединились бесшабашная удаль с высоким порывом духа и нежными воспоминаниями о детстве, сохранилась как главная тема «Перезвонов». И не зря в подзаголовок Гаврилин вынес: «По прочтению Шукшина». Может показаться, что жизнь Валерия Александровича после получения им премии имени Глинки — это сплошная восходящая линия: от удачи к удаче, от премии к премии. Лауреат премии Ленинского комсомола, победитель различных песенных конкурсов (песни его в одной газетной статье назвали «жемчужинами современного вокального искусства»), в сорок лет заслуженный деятель искусств, затем — народный артист РСФСР, наконец, Государственная премия СССР за «Перезвоны». Его произведения исполняют лучшие мастера и коллективы страны. Но как часто жизнь художника кажется благополучной лишь внешне. На самом же деле она полна внутренних драм, крушений, надежд, иллюзий. Композитор Гаврилин не просто требователен, он жесток к себе. Новые эстетические идеи, которые претворены в последних его произведениях, рождаются в результате долгого, мучительного диалога с самим собой, в результате отказа от многих собственных сочинений. — Что с оперой «Шинель»? О ней когда-то много писали газеты,— спросил я однажды. — Ее больше нет,— ответил Валерий Александрович и показал на увесистую стопу нот в углу,— подготовил на выброс. Я долго думал о словах, которые закончили бы рассказ о композиторе. Мне хотелось найти самые точные, правильные. И я решил уже было воспользоваться теми, что произнес на Центральном телевидении Георгий Свиридов, когда предварял передачу «Перезвонов»: «В этом смысле его сочинение является, действительно, победой нашей советской музыки». Но однажды я вышел из квартиры Гаврилина и столкнулся на лестнице с немолодым, пенсионного вида мужчиной. — Я в эту квартиру много писем переносил,— сказал он мне. — Здесь живет Валерий Гаврилин, народный композитор. Уверен, что почтальон не оговорился. |