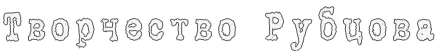Своеобразие поэзии Н. Рубцова определяется в значительной степени тем обстоятельством, что, явившись в бурный и противоречивый век XX, она в то же самое время опиралась на глубинные корневые истоки отечественной культурной традиции. При этом наиболее органично рубцовская муза связана, пожалуй, с традициями классической литературы «золотого» XIX века русской культуры, хотя, несомненно, отражает и специфику современного поэту историко-литературного процесса.
В этом смысле особенно показательным можно считать выявление в творчестве Н. Рубцова соборного начала, представляющего собой, по мнению И. А. Есаулова, одну из фундаментальных характеристик отечественной культуры [1] [См.: Есаулов И. А. Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск, 1995; Есаулов И. А. Христианское основание русской литературы: соборность // Литературная учеба 1998. Кн. 1–3. Январь-июнь. С. 105–123.].
По определению известного русского мыслителя, протоиерея Сергия Булгакова, соборность — это «душа Православия» [2] [Прот. Сергий Булгаков. Православие. Очерки учения Православной Церкви. Париж, 1989. С. 145.]. Ее сакральный прообраз — «Троица Единосущная и Нераздельная» [3] [Всенощное бдение. Литургия. С объяснениями. Минск, 2003. С. 73.] (единство и неслиянность Бога-Отца, Бога-Сына и Бога Святого Духа). По замечанию епископа Александра (Семенова-Тянь-Шанского), «Пресвятую Троицу можно назвать самым совершенным единством в любви, или союзом любви, потому что совершенны Любящие и совершенна Их любовь» [4] [Епископ Александр (Семенов-Тянь-Шанский). Православный катихизис. Киев, 2003. С. 18.]. Это — идеал соборности, высшее ее проявление.
«Соборность, — подчеркивает И. А. Есаулов, — является своего рода ядром православного типа духовности, который и сформировал многие черты русского национального характера, определил доминанту русской культуры» [5] [Есаулов И. А. Христианское основание русской литературы: соборность // Литературная учеба 1998. Кн. 1–3. Январь-июнь. С. 107.]. «Ключ» к пониманию соборности, по мнению исследователя, содержится уже в «Слове о Законе и Благодати» митрополита Иллариона, с которого начинается оригинальная русская словесность, — в разграничении Закона и Благодати. «Если... соборность — это «душа Православия», — пишет И. А. Есаулов, — то Благодать Божия — «зерно» самой соборности» [6] [Там же.]. При этом «действие благодати митрополит Илларион относит не только к отдельной личности, но и к народу в целом» [7] [Там же.]. Одновременно в «Слове...» фактически подчеркивается, что «закон, основанный на несвободном подчинении необходимости, находится за пределами соборности» [8] [Там же.]. Иными словами, это означает, что «попытки свести соборность к позднейшему «коллективизму» либо «тоталитаризму» заведомо несостоятельны...» [9] [Там же.].
Далее И. А. Есаулов отмечает, что «свидетельствующая о замечательной трансисторической целостности русской православной духовной ориентации оппозиция Закона и Благодати универсальна для отечественной культуры. Она выражает новый принцип человеческого единения — не равенство перед лицом Закона, но благодатное соборное единство людей во Христе» [10] [Там же.]. Особенно многочисленны проявления новозаветной соборности в древнерусской литературе (в «Повести временных лет», «Слове о погибели Русской земли», «Задонщине» и др.). Яркое отражение соборное начало находит и в русской классической словесности Нового времени (причем не только в творчестве А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского, но и, как показывает И. А. Есаулов, в творчестве Л. Н. Толстого и М. Е. Салтыкова-Щедрина). «Духовное освоение Нового Завета, — подчеркивает И. А. Есаулов, — составляет своего рода нерв [*] [Курсив И. А. Есаулова. — А. Н.] русской культуры, основанной на соборности и христоцентризме» [11] [Там же. С. 109.]. При этом в классической русской литературе ХIХ столетия евангельский христоцентризм проявляет себя чаще всего в имплицитной (неявной) форме: «авторской этической и эстетической ориентацией на высший нравственный идеал, каковым является Иисус Христос» [12] [Там же. С. 107.]. Причем сам центральный персонаж Нового Завета, как правило, остается за рамками повествования, незримо присутствуя в то же время в сознании автора и читателей.
В период расцвета русской светской культуры серебряного века, связанного во многом с так называемым русским религиозным ренессансом, происходит значительное смещение эстетической доминанты отечественной словесности. Оно нашло выражение в своеобразной трансформации соборного архетипа, выразившейся в подмене христианских истоков соборности оккультно-языческими (так, Вяч. Иванов находил истоки соборности в дионисийских оргиях, по замечанию же Н. Гумилева, русский символизм «братался то с теософией, то с оккультизмом», что в традиционном для отечественной культуры православном контексте понимается как «дерзания мифотворцев и богоборцев» (К. В. Мочульский) [13] [Там же. С. 122.]).
Наконец, третий, решающий этап трансформации соборности (по И. А. Есаулову) связан с развитием советской культуры, когда «религиозный вектор советской литературы направлялся доктриной коллективизма и верой, «противоположной христианской» (Н. А. Бердяев)» [14] [Там же. С. 123.] и когда Благодать христианская и соборное начало заменяются советским законничеством...
При попытке осмысления рубцовской поэзии в контексте выстроенной И. А. Есауловым схемы трансформации соборного начала в отечественной культуре (непосредственное воплощение Евангельского идеала в древнерусской словесности — имплицитное выражение христианских идей в русской культуре «золотого» XIX века — оккультно-языческая подмена христианского идеала в литературе серебряного века — тоталитарный коллективизм (противоположный соборности) советской культуры), на наш взгляд, представляется следующая картина: в процессе своего развития поэзия Рубцова в рамках указанной схемы двигается в обратном направлении: от советского идеологизма через преодоление оккультно-языческой традиции к имплицитному воплощению христианской идеи.
В самом деле, воспитанный в рамках советской образовательной системы, проникнутой марксистско-ленинским, коммунистическим духом, Н. Рубцов не мог не выразить соответствующих идей в своем творчестве (особенно раннем).
Надо
быть
с коммунистами
В славе, в мечте, в борьбе!
Надо пути каменистые
Всем испытать на себе,
Чтобы на другого не сваливать
Трудности честных дорог,
Чтобы дороги осваивать.
Слившись
в железный
поток!
Надо быть
с коммунистами
В разуме ясном, в душе —
Счастлив, кто этого истинно
В жизни добился уже!
В дом
коммунизма
лучистый
Вход не с любого пути:
Надо
быть
с коммунистами.
Чтоб в коммунизм войти! (II. 250) —
писал Н. Рубцов в одном из своих ранних произведений [15] [По словам В. Винникова, это типичная «газетная публикация-"'паровозик"» конца 1950-х — начала 1960-х гг. См.: Винников В. «Лодка на речной мели...» Почти неюбилейные заметки // Завтра. Газета Государства Российского. Январь. 2006. № 2 (634).].
Этот, по словам В. С. Белкова, «схематический газетный стих» [16] [Белков В. С. Жизнеописание Николая Рубцова // Воспоминания о Николае Рубцове. Вологда, 1994. С. 412.] (как и некоторые другие подобные) не включался поэтом ни в один из его сборников, но в то же время в определенном смысле весьма показателен. Особенно интересен образ «железного потока» (восходящий к А. Серафимовичу), прямо противоположный соборному началу в Православии, связанному не с механическим, количественным единством, а, по словам архиепископа Аверкия (Таушева), со «стоянием в Истине» [17] [Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Божия. Т. 1. С. 83. Цитируется по: Игумен Илия (Емпулев). Страха же вашего не убоимся. Главы из книги // Первый и последний. Декабрь, 2005. № 12 (40). С. 47.]. В дальнейшем, как известно, Н. Рубцов преодолевает эту идеологическую зашоренность, но ее отголоски (например, в почитании В. И. Ленина [18] [См.: Багров С. П. Россия, родина, Рубцов. Документальное повествование. Вологда, 2005. С. 166–167. См. также стихотворение «Ленинец» («Ленина все мы любим...» (II, 243)), опубликованное в альманахе «Полярное сияние». Североморск. 1959. № 2.]) сохраняются в нем едва ли не до последних дней.
Кроме того, по мнению некоторых исследователей, в рубцовской поэтике природы находят отражение черты языческого миропонимания [19] [См.: Иванова Е. Религиозные мотивы в лирике Рубцова // В мире Рубцова. Литературное приложение № 11 к устюженской районной газете. 4. I. 1996. С. 4.] (стихи «Осенние этюды», «Памятный случай», «Ночное» и др.). В изображении природы Н. Рубцов, действительно, нередко использует прием олицетворения, одушевления различных природных явлений, деревьев, растений. Для поэта также характерно порой и восприятие природы как некой таинственной силы:
Когда стихает яростная буря.
Сюда приходит девочка-малютка
И робко так садится на качели.
Закутываясь в бабушкин шаль.
Скрипят, скрипят под ветками качели,
И так шумит над девочкой береза,
И так вздыхает горестно и страстно,
Как будто человеческою речью
Она желает что-то рассказать... (I, 271)
— такой образ создает поэт в стихотворении «Осенние этюды». Но говорить об обожествлении природы или языческом поклонении ей Рубцова на основании подобных строк не представляется возможным. Впрочем, в восприятии природы как «святой обители» (I, 213), как храма, несомненно, проскальзывают пантеистические черточки, которые, в свою очередь, преодолеваются христианской образностью...
При этом зачастую христианский идеал в рубцовской поэзии получает имплицитное выражение, как и в русской классической литературе XIX в., к которой в целом более всего, на наш взгляд, тяготеет поэт. Например, в стихотворении «Старик» появляется образ странника, паломника, который
Глядит глазами голубыми.
Несет котомку на горбу,
Словами тихими, скупыми
Благодарит свою судьбу.
Не помнит он, что было прежде,
И не боится черных туч,
Идет себе в простой одежде
С душою светлою, как луч! (II, 13).
Поэт А. А. Романов справедливо сравнивал это стихотворение с некрасовским «Власом» [20] [См.: Россия, родина, Рубцов... С. 189–191.]:
В армяке с открытым воротом
С обнаженной головой
Медленно проходит городом
Дядя Влас — старик седой.
На груди икона медная:
Просит он на Божий храм, —
Весь в веригах, обувь бедная,
На щеке глубокий шрам [21] [Некрасов Н. А. Сочинения: В 3 т. М., 1953. Т. 1. С. 125.].
Правда, в отличие от Некрасова православная принадлежность рубцовского старика формально не обозначена, хотя и несомненна.
Возникающие же в стихах Н. Рубцова образы «пустого храма», «разрушенных белых церквей» и др. воплощают в себе, по существу, печаль, тоску, боль по утраченным христианским ценностям, соборным началам русской жизни и — одновременно — стремление к их обретению.
В связи с этим уместно также сказать несколько слов и о религиозности Н. Рубцова, несомненной, но интерпретируемой в настоящее время по-разному. Так, современные неоязычники-венеды безоговорочно включают поэта в свои ряды (родноверов), ссылаясь при этом на одушевление природы в его произведениях [22] [См.: Ярь. Историко-культурная газета ведического народоверия. № 1(9). 2006. С. 7.]. С другой стороны, некоторые исследователи сопоставляют Н. Рубцова с самим Иоанном Предтечей... [23] [См.: Грунтовский А. Грусть и святость (Поэтическое богословие Николая Рубцова) // Автограф. Литературно-художественный журнал. № 30. Вологда, 2004. С. 10–16.]. Кроме того, предпринята была и попытка посмертно воцерковить Н. Рубцова, представить его христианином, тайно молящимся и посещающим церковь, для чего, собственно, никаких веских оснований в настоящее время нет.
Наиболее убедительной в этом смысле представляется позиция Н. М. Коняева, считающего, что «душа его искала, жаждала воцерковления, она шла к церкви, но каждый раз натыкалась лишь на развалины храмов... И, строго говоря, вся его поэзия — это попытка восстановления храмового строения, возведения церковных стен, вознесения куполов... Это всегда молитва, созидающая церковное строение, и всегда — страшное предчувствие гибели его» [24] [Коняев Н. М. Николай Рубцов. М., 2001. С. 252.].
В этом контексте, связывая духовное развитие Н. Рубцова со стремлением к обретению христианского идеала, к соборности, к воцерковлению, следует, на наш взгляд, осмысливать и последний акт земной жизни поэта — его смерть, которая представляется многим нелепой, роковой случайностью, трагическим недоразумением. В действительности, думается, трагическая смерть поэта явилась не только проявлением высшей закономерности по отношению к нему, но и выражением высшей справедливости и даже —высшей милости Божией. Поскольку именно через страдание может быть обретено искупление, очищение и спасение души, что и является главной целью христианской жизни.