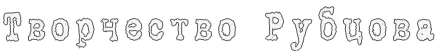|
Рубцовский сборник. Вып. 1 :
материалы науч. конф., [27-28 апр. 2006 г.», посвящ. 70-летию со дня рождения поэта]
/ Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО «Череповец. гос. ун-т». – Череповец : ЧГУ, 2008. – 164, [1] с. : ил., портр. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
Из содерж.:
Мотив прерванного движения в поэзии Н. Рубцова
/ А. В. Чернов. – С. 8-14;
Мы часто говорим о философичности того или иного поэтического мира, вкладывая в этот эпитет разные, порой противоположные смыслы. С моей точки зрения, одним из обязательных признаков философичности художественного мира является наличие в нем устойчивых элементов разного уровня, повторяющихся, вычленяемых, таких, которые могут быть отрефлексированными в категориях онтологии или аксиологии. Их наличие позволяет говорить и о целостности художественного мира поэта как автономной его характеристике, его системности и уникальности.
Такого рода устойчивые формально-содержательные образования могут быть выделены различными способами, в рамках различных методологий и при помощи различного исследовательского инструментария. В отношении поэзии Рубцова мне показалось уместным использовать элементы мотивного анализа, опирающегося, как известно, на представление о динамичном бытовании в художественном пространстве отдельного произведения или всего творчества как единого художественного текста автора устойчивых, повторяющихся формально-содержательных компонентов, несущих значительную нагрузку и образующих в своей совокупности ценностно-смысловую парадигму этого текста как уникального художественного единства.
В качестве предмета наблюдения выбран мотив движения. Движение в художественном пространстве многоаспектно. При анализе конкретного художественного мира принципиальными становятся его направленность, доминирующий уровень (от собственно ритмических приемов до композиции и содержательных элементов, например, описываемых судеб героев). Интенсивность — одна из принципиальных характеристик структуры и сущности художественного мира.
Масштаб и анализируемый уровень движения образов, смыслов, приемов, отражаемые в тексте или даже организующие структуру текста, в полной мере зависят от картины мира автора и доминирующей в социуме системы ценностей. Мне уже приходилось писать и говорить о двух типах движения, доминирующих в русской словесности XIX века, — движении циклическом и движении линейном [1] [Чернов А. В. Архетип «блудного сына» в русской литературе XIX века // Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков. Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр: Сб. науч. тр. Петрозаводск: ПГУ. 1994. С. 151–159.]. Движение и его характеристики не только занимают ключевое положение в смысловых структурах художественных миров, но отражают и воплощают универсальный принцип организации пространства сообщения, распространяющийся на все виды текстовой информации — вербальные, визуальные, аудиовизуальные. Поскольку идентификации воспринимающего сознания подвергается только движущийся предмет (неподвижность, естественно, рассматривается как различительная и оценочная характеристика при наличии движущегося контекста). В искусстве в целом, и в литературе, в частности, характер воспроизводимого движения является зачастую центральным отличительным компонентом художественной школы и направления, той или иной философско-эстетической модели мира, воплощаемой в конкретном тексте.
Важность мотивного анализа в том, что он позволяет вскрывать предсознательные структуры, оказывающие через картину мира автора определяющее воздействие на характер и способ вербализации мировоззренческих представлений. Устойчивое повторение того или иного мотива, в зависимости от его характера, может быть более или менее рационализировано в процессе авторской саморефлексии. В то же время большинство глубинных мотивов выражает структурные характеристики авторской ментальной матрицы и далеко не всегда становится поводом для рациональных самооценок, даже далеко не всегда ощущается, а тем более специально вычленяется и акцентируется автором. В то же время именно повторяемость, системность неких глубинных мотивов оказывает решающее влияние на процесс читательской интерполяции текстовых компонентов и текста в целом.
Простота и прозрачность лирики Рубцова обманчиво скрывают от читателя интеллектуальный накал и драматизм мировоззренческого плана, становящийся движущей силой лирики поэта. Обращение к мотиву движения, как кажется, позволяет обратить внимание всего лишь на один, но принципиальный, аспект этой замечательной сложности.
При обращении под избранным углом зрения к поэзии Рубцова нас интересует, во-первых, интерес к движению как таковому, во-вторых, качество движения (наличие/отсутствие цели, темп, траектория и т.д.), в-третьих, то, какие поведенческие модели в мире Рубцова воспринимаются как движущиеся.
Если использовать эту весьма условную классификацию и обратиться к комплексу рубцовских текстов, то можно убедиться, что он дает варианты всех аспектов проблемы. Очень большое место занимает «движение без цели, точнее движение как самоцель».
Это вполне закономерно и говорит о теснейшей связи поэтического мира Рубцова с русской поэтической традицией. Поскольку «движение как самоцель» — один из распространеннейших мотивов русской словесности. Безусловно, архетип движения в русской культуре связан с православной, может быть, даже шире — религиозной вообще традицией. Тем более, если мы обратимся к исходному значению слова «религия» — «связь». Движение — надежда на восстановление разрушенных и утраченных или обретение новых, спасительных связей человека с миром земным и миром небесным. При этом географическое перемещение особого качества в отечественной культуре воспринимается как само по себе ценностно нагруженное. Бесцельность в смысле отсутствия представления о месте нахождения искомого, отсутствие «плана» и «карты» — совершенно принципиально. Поиски клада непременно нуждаются в карте, указывающей место скрытых сокровищ. Поиск духовный принципиально не может быть материализован методами картографии. Потому что перемещение странника в пространстве, физически осуществляемое, это всего лишь метафора его движения внутреннего, его совершенствования. Поэтому не важно, сколько и куда он пройдет, а важно, что и как внутри человеческого сознания за это время произойдет. Это движение в поисках Беловодья, а не материального благополучия и т. д. Русская литература и поэзия в особенности всегда тяготели к поэтизации, казалось бы, бесцельного бродяжничества, бегства как самоцели. Емко и просто это сформулировал С. Есенин в стихотворении 1924 года «Не ругайтесь. Такое дело!..»: «...Брошу все. Отпущу себе бороду // И бродягой пойду по Руси»/.. [2] [Есенин С. А. Сочинения. М. 1988. С. 201.]
Несколько измененный вариант такого типа движения представлен и в знаменитом рубцовском стихотворении 1970 года:
В жарком тумане дня
Сонный встряхнем фиорд!
— Эй, капитан! Меня
Первым прими на борт!
Плыть, плыть, плыть
Мимо могильных плит.
Мимо церковных рам,
Мимо семейных драм...
(...)
Где я зарыт, спроси
Жителей дальних мест.
Каждому на Руси
Памятник — добрый крест!
Плыть, плыть, плыть... (II, 24).
Другой вариант движения — сопоставление движения линейного и циклического. Циклического движения в природе, где за увяданием естественно приходит возрождение, и линейного движения конечной человеческой жизни. При этом человек именно момент природного цикла воспринимает как движение линейное и конечное на каждом конкретном отрезке времени, а человеческую жизнь — как феномен, выведенный из этого круговорота смерти-рождения:
Улетели листья
с тополей —
Повторилась в мире неизбежность...
Не жалей ты листья, не жалей,
А жалей любовь мою и нежность! (...)
(«Улетели листья». 1964; I, 190).
Не случайны и разнообразные вариации темы конной скачки как особого типа «возвышенного движения»: «Эх, коня да удаль азиата..» (I, 160), «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны» (I, 201–202) и т. д.
Движение у Рубцова может принимать и форму изменения сознания, например, под воздействием алкоголя. Но и это движение, отличающее героя от небытия и делающее его существующим здесь и сейчас:
...Мне поставят памятник
на селе!
Буду я и каменный
навеселе!
(«Мое слово верное прозвенит!..», 1962; II, 214).
Или шуточное же «Утро перед экзаменом» (1961):
...Спотыкаясь
даже на цветочках, —
Боже! Тоже пьяная...
В дугу! —
Чья-то равнобедренная
Дочка двигалась.
Как радиус в кругу... (I, 171–172).
Примеры можно продолжать до бесконечности, многочисленны и разновидности включаемых в поэтические строки типов и видов движения.
Но у Рубцова есть очень специфическая трактовка темы, можно было бы сказать, чисто рубцовская, если бы не некоторые «но».
Наиболее яркое воплощение специфически рубцовского варианта движения мы видим в стихотворении из сборника «Подорожники» «Последняя осень» (1968):
Его увидев, люди ликовали.
Но он-то знал, как был он одинок.
Он оглядел собравшихся в подвале,
Хотел подняться, выйти... и не смог!
И понял он, что вот слабеет воля,
А где покой среди больших дорог?!
Что есть друзья в тиши родного поля.
Но он от них отчаянно далек!
И в первый раз поник Сергей Есенин,
Как никогда, среди унылых стен...
Он жил тогда в предчувствии осеннем
Уж далеко не лучших перемен (II, 100).
Именно в этом стихотворении наиболее полно и ярко воплощается совершенно принципиальный для Рубцова мотив прерванного движения. Для поэта это некая тайная, глубинная, отчасти сакральная вариация. Важность ее демонстрируется тем, что тема реализуется в отношении Сергея Есенина — не только поэта, оказавшего огромное влияние на Рубцова, но и близкой ему личности: «…Да и невозможно забыть мне ничего, что касается Есенина. О нем всегда я думаю больше, чем о ком-либо» (III, 272), — писал, например, в конце 50-х Н. М. Рубцов В. Сафонову. Поэтому то, что именно с фигурой Есенина связал поэт мотив прерванного движения, — совершенно принципиально для понимания важности его в целостной системе поэтической картины мира Рубцова.
Если движение как таковое — всегда надежда на изменение, преображение, новую жизнь, возрождение, то прерванное движение — обманутая надежда. И в этом смысле оно страшнее движения не начавшегося: невозможно остановить неподвижное, но прервать начавшееся и длящееся движение — значит, остановить окончательно. Прерванное движение — не важно кем и из-за чего или кого — воплощение центрального нерва поэтического мира Рубцова. Можно было бы даже сказать, что в стихах Рубцова очевидно ощущается болезненная боязнь остановки. Устойчивость этого мотива оборванного движения долгое время представлялась уникально рубцовской, пока я не натолкнулся на фразу выдающегося философа Мераба Мамардашвили, сказавшего как-то: «Прерванное движение ведет к болезни». Это ведь полная метафора поэта, его мира, его эпохи...
В конце концов, разве социально-политическая метафора всего поколения Рубцова — «оттепель» — не воплощает значение «начавшегося, но прерванного, обманутого движения»? Прерванное движение — один из глубинных, онтологически и аксиологически насыщенных и нагруженных мотивов поэзии Рубцова, глубоко отражающий не только индивидуальные черты его поэтического мира, но и демонстрирующий уникальную чуткость поэта к доминирующему настроению эпохи.
|