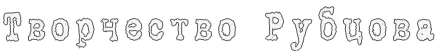|
Шайтанов И.
Поэт из Вологды : Николай Рубцов в традиции рус. стиха
/ И. Шайтанов // Дело вкуса : кн. о соврем. поэзии
/ И. Шайтанов. – М., 2007. – С. 199-223. – Библиогр. в подстроч. примеч.
Трагически ушедший из жизни в январе 1971 года Николай Рубцов стал одной из центральных фигур в поэзии наступившего тогда десятилетия.
Известность пришла к нему не после смерти – накануне ее. Проживи он еще несколько лет (хотя гадание в таком случае всегда беспомощно и неуместно), его имя прозвучало бы с той же значительностью, какую оно приобрело посмертно. Только споров было бы меньше, ибо меньше было бы преувеличений.
Поэзия Рубцова озвучила переживания многих, очень многих и стала их голосом. Он был поэтом «долгожданным» (как назвал его Глеб Горбовский), это так. Однако с полемической поспешностью его стали причислять к великим, расчищая для этого, как казалось, занятое место. Занявших его бесцеремонно расталкивали:
Николай Рубцов – поэт долгожданный. Блок и Есенин были последними, кто очаровывал читающий мир поэзией – непридуманной, органической. Полвека прошло в поиске, в изыске, в утверждении многих форм, а также – истин. Большинство из найденного за эти годы в русской поэзии позднее рассыпалось прахом, кое-что осело на ее дно интеллектуальным осадком, сделало стих гуще, эрудированнее, изящней* [Горбовский Г. Долгожданный поэт // Воспоминания о Николае Рубцове. Вологда, 1994. С. 137].
Почему интеллектуальный осадок придает изящества, не очень понятно, но понятно, что и изящество, и интеллектуальность – от лукавого, равно неорганичны.
Рубцова, как и Владимира Соколова до него и одновременно с ним, стали почитать главой «органической поэзии», истинной, противостоящей поэзии «книжной». Соколов имел возможность ответить и отказаться от навязываемой ему роли. За Рубцова решали те, кто сочли себя его душеприказчиками.
А если бы он имел возможность решать сам?
По своей личности Рубцов мало подходил для того, чтобы участвовать в литературной политике. Он был поэтом. Поэтом, которого невозможно мыслить вне поэзии, вне традиции. Первая книга о нем, написанная Вадимом Кожиновым, верна по крайней мере в том, что Рубцов увиден органичным продолжателем, а не только стихийным выразителем духа и языка.
Однако В. Кожинову, в целом принимая его книгу, возразили литераторы из вологодского окружения Рубцова:
Можно было бы спорить с теми строками в книге, в которых автор придает преувеличенное, на мой взгляд, значение влиянию классического наследия на формирование рубцовской поэтики, и с теми, в которых он отрицает влияние на Рубцова северорусского фольклора, но это был бы спор по частным вопросам.
Так писал В. Елесин в газете «Красный Север» (1976. 27 августа).
Спор назван расхождением по частным вопросам, но такая оценка, думаю, определена жанром рецензии, – мол, недостатки частные, в главном же – удача. На самом деле весьма принципиально – на какой традиции сделать акцент.
Кожинов знал Рубцова по Москве, в годы учения поэта в Литинституте, и свои воспоминания озаглавил: «В кругу московских поэтов». Елесин – в Вологде, где Рубцов оказался достаточно поздно – в 1964 году, хотя со своего сиротского, детдомовского детства был связан с Вологодчиной. Местные литераторы ни в коей мере не хотели бы сузить значение Рубцова, представив его иконой местного чина, но увидеть в его манере больше признаков местного письма, школы им хотелось. А значение поэта, конечно же, утверждается с общенациональным размахом.
Как показывают стихи, двадцативосьмилетний Рубцов приехал в Вологду сложившимся поэтом: 1963–1964 годы были временем, когда приходит творческая зрелость. В это время пишутся многие лучшие стихотворения, иногда в первом варианте, который еще будет перерабатываться. Окончательный выбор предстояло утвердить. В характере Рубцова была упрямая убежденность одаренного человека. Он знал, к чему шел, и шел, пренебрегая обстоятельствами своей трудной жизни.
В то время, когда поэзия все более развивала исповедальную склонность – рассказывай автобиографию в стихах, веди поэтический дневник, – он, переживший так много, мог бы легче, чем кто-либо зарифмовывать факты биографии. Среди них отыскалась бы героическая экзотика – семь лет на Северном флоте; и ценимая в периодической печати (куда Рубцов пробивался так тяжело) трудовая тематика – три года работы на Кировском заводе... А сельское детство, а вся жизнь, дающая повод сложить стих и в драматической, и в чувствительной тональности...
Рубцов всему отдал дань, но ни на чем не остановился. Он не остановился на поэзии внешних обстоятельств, на писании поэтической автобиографии.
Он знал противоречие между жизнью и поэзией: «Пока не требует поэта...» И даже не только в этом, пушкинском смысле, – малодушной повседневности. Каждый пишет о том, что дано и известно ему, но не все данное в опыте может перейти в поэзию. Об этом у Рубцова – в стихотворении «Поэзия»:
Железный путь зовет меня гудками,
И я бегу... Но мне не по себе,
Когда она за дымными веками
Избой в снегах, лугами, ветряками
Мелькнет порой, покорная судьбе...
Сначала в Москве, а затем в Вологде Рубцов оказывается в кругу поэтов, чей поиск схож с его собственным. Деревня и природа – их первая тема. Через нее видится и воспринимается все остальное. Кто-то спешит обособить свой опыт и порой агрессивно, враждебно противопоставить его любому другому кругу жизненных впечатлений. Рубцов в этом смысле не категоричен. Он настаивает на своем, но непреодолимости границ предпочитает множественность связей, оставляя свое за собой и не перечеркивая чужого.
Открытость его мышления отчетливее всего видится в том, как широко и заинтересованно он принял традицию русской поэзии, хотя многое узнавал поздно.
Становление поэта – это всегда и узнавание поэтического в собственных переживаниях, и поиск языка – как передать то, что считаешь достойным поэзии. Самобытность и глубина видения не всегда сохраняются в слове. Василий Субботин вспоминает о Маршаке, говорившем, «что мир ребенка, выросшего в деревне, другой, свой собственный... Человек видит мир сразу весь, он у него с самого начала весь перед глазами. Потому и связь деревенского жителя с миром первороднее». Преимущество? Да, но далеко не всегда им удается воспользоваться, и Маршак тут же сожалел, «что стихи поэтов, вышедших из деревни, чаще всего страдают ритмическим однообразием и даже некоторой однотонностью»* [Субботин В. Силуэты. М., 1973. С. 149].
Не хватает смелости, свободы ощущения себя в культуре, чтобы почувствовать свое внутреннее право войти в нее, оставаясь самим собой. Учитесь у классики – гораздо легче советовать, чем следовать совету.
Если совет давал Рубцов, то потому, что успел почувствовать пользу такой учебы и уже воспользоваться классическими уроками, зная их трудность и их опасность. Об этом он писал в 1966 году в рецензии на сборник стихов Ольги Фокиной:
Кажется, это Ольга сказала, что мы нередко бежим от желания выразить то или иное настроение, боясь показаться неоригинальными, боясь напомнить кого-либо из классиков. А получается так, что бежим от поэзии.
С этим нельзя не согласиться. Суть, очевидно, в том, чтобы все средства, весь опыт предыдущей литературы использовать для того, чтобы с наибольшей полнотой выразить самого себя и тем самым создать нечто новое в поэзии. Было бы что стоящего выражать.
Кому-то сказанное покажется настолько хорошо известным, что и не заслуживает повторения. В качестве общего положения это, безусловно, банальность, но Рубцов преподносит не общеэстетический тезис, а трудно добытое, выстраданное поэтическое убеждение, принять которое на словах и следовать которому в творчестве – не одно и то же. Поэзия Ольги Фокиной, с его точки зрения, – пример такого следования.
Рубцов находит, что ею уже осуществлено «слияние двух традиций – фольклорной и классической...» В подтверждение цитирует одно из лучших стихотворений поэтессы:
Простые звуки родины моей:
Реки неугомонной бормотанье
Да гулкое лесное кукование
Под шорох созревающих полей.
Простые краски северных широт:
Румяный клевер, лен голубоватый,
И солнца блеск, немного виноватый,
И облака, плывущие вразброд...
Все, о чем пишет Фокина, уже неоднократно становилось в поэтическую строку, но даже если взять только изображение – разве оно банально? Если ему и сопутствует узнавание, то сопровождающееся не раздраженным чувством – опять одно и то же повторяют, – а радостью для всякого, кому знаком северный пейзаж и дорого ощущение, им вызываемое. Простота стиха соответствует простоте красок «северных широт», но это простота высокого искусства. Каждый эпитет не просто наблюдателен, а – проникновенен, ибо схватывает внутреннюю суть явления: «И солнца блеск, немного виноватый...» Неотразимо обаяние интонации, принадлежащей поэзии Фокиной – негромкой, по-человечески застенчивой, а поэтически – принадлежащей традиции русского классического стиха.
Не знаю, удалось ли где-нибудь еще О. Фокиной так точно передать ощущение цельности мира, той первоначальной цельности, которая открывается прежде всего и естественнее всего деревенскому жителю. Но ведь именно в этом стихотворении поэтесса противопоставила тому первоначальному ощущению новое, дарованное поэзией:
...И облака, плывущие вразброд.
Плывут неторопливо, словно ждут,
Что я рванусь за ними, как когда-то,
Но мне теперь, не меньше их крылатой,
Мне все равно, куда они плывут.
Процитировав только первые четыре строки, Рубцов писал:
По внешней и внутренней организации это четверостишье сильно напоминает лермонтовское «ее степей холодное молчанье, ее лесов безбрежных колыханье». Все равно напоминает, хотя оно гораздо интимней по интонации. Это было бы плохо, если бы стих был просто сконструирован по лермонтовскому образцу. Это хорошо потому, что стих не сконструирован, а искренне и трепетно передает такое подлинное состояние души, которое родственно лермонтовскому.
Когда о стихах пишет поэт, он невольно соотносит их с собственными, часто преувеличивает черты сходства.
Так и Рубцов был готов увидеть у Фокиной слияние классики с фольклором, которого добивался для себя. В классике видел высоту уже выраженного человеческого духа. В фольклоре – наследование не менее высокой, не менее цельной, но уходящей культуре, связью с которой гордился:
...до меня все же докатились последние волны старинной русской самобытности, в которой было много прекрасного, поэтического («Коротко о себе», около 1963 года)* [Рубцов Н. Русский огонек. Стихи. Переводы. Воспоминания. Проза. Письма. Вологда, 1994. С. 414].
Мне тоже казалось когда-то, что стихотворение «Простые звуки родины моей...» – знак перемен в поэзии Фокиной. Я об этом и писал в самом начале 70-х годов (не зная тогда рецензии Рубцова, напечатанной первоначально в газете «Вологодский комсомолец» и перепечатанной лишь в 1983 году в сборнике «Воспоминаний о Рубцове»).
Сменилось место жительства поэтессы – на Вологду, но дом остался по-прежнему на реке Содонге. И каждое возвращение – радость узнавания, отъезд – тоска человека, оставляющего родной дом для скучной неприветливости общежитских стен. Чувство искреннее и понятное, но, поскольку переживается поэтессой, возбуждает вопрос – что же дальше? Новый жизненный опыт оказался поэтически мало продуктивным. Есть у Ольги Фокиной стихотворение «В магазине». О грампластинках, о «звуках музыки вихлястой», о стриженом мальчике (заметьте, как меняется мода: тогда стриженый – городской, длинноволосый – деревенский), любящем эту музыку и не помнящем, откуда он родом. Это город. И тема города – тема вихлястых ритмов, людей, не помнящих родства.
Нельзя писать о звуках, которых не слышишь, не понимаешь, но нельзя считать, что существуют только твои звуки, тревожащие твое сердце, а все остальное – от лукавого. Ольга Фокина отстраняется от чужого, но у других в подобной ситуации все чаще сквозит агрессия.
Именно тогда – на рубеже 60-х и 70-х – душевная неподвижность, неподверженность переменам начинает возводиться в литературе в достоинство. Для молодых вологодских литераторов большой потерей стала смерть в 1968 году Александра Яшина, их общего учителя, человека, давно в Вологде не жившего, но постоянно там бывавшего. Благодаря его поддержке формировался круг писателей, которых позже назовут «школой» – школой местного колорита, сохраняющей общенациональные традиции. Думаю, что при Яшине дух «школы» как чего-то замкнутого и переменам не подверженного не мог бы восторжествовать.
Яшин наездами появлялся в Вологде и у себя на Бобришном угоре под Никольском. Приезжал надолго, когда нужно было отсидеться после очередного раската официального гнева: за «Рычаги», за «Вологодскую свадьбу»... Выглядел колючим, подавленным.
Яшин скоро умер. При нем направление «вологодской школы» было и осталось бы другим. По своему тону и по тону своей любви он был совсем не идилличен, но не был и озлоблен:
В голоде,
В холоде,
В городе Вологде,
Жили мы весело –
Были мы молоды.
Я со своей богоданной
Ровесницей
Под деревянной
Под жактовской лестницей.
Это о тех же домах за резными палисадами, о которых поет известный шлягер, увиденных взглядом не с улицы, а изнутри. Из-за дверей обитых для тепла полуистлевшим ватином. Некогда частные владения, революцией уплотненные в коммуналки, с запахом из дощатого туалета и с общей кухни.
Десятилетиями догнивала деревянная Вологда. Теперь ее нет. Она почти догнила. Ее снесли. Частью отреставрировали, поставив крепкий новодел или на месте прежних срубов сложив кирпичные стены. Их в Вологде полагается обшивать тесом. Исторический город по-прежнему выглядит деревянным.
Он теперь гораздо чище и приветливее, чем лет сорок назад, когда в нем Василий Белов писал свою классическую раннюю прозу, а Николай Рубцов, как и следует поэту, уловил эмоциональный и речевой тон уходящей жизни. Поэтому Рубцов и любим в Вологде. И не только в Вологде. А если кто-то превознес его как современного Пушкина, а кто-то унизил до есенинского эпигона, то это их игры, ни к Рубцову, ни к поэзии отношения не имеющие.
Игр было много. И вокруг Вологды, и в самой Вологде, где согласились сыграть роль центра русской духовности. Припомнили свои столичные амбиции, не сбывшиеся в XVI столетии. По этому случаю во второй половине XX пустили фразу: «Вологда – столица России. Москва – столица Африки».
Это были еще советские времена дружбы народов.
* * *
Каким был круг традиции, доступной поэту в ранние годы?
Есенин – первая любовь, прочитанный и врезавшийся в память, когда в 1957 году после десятилетий забвения и неиздания вышел в свет его двухтомник (о том, как Есениным зачитывались на Северном флоте, вспоминает друг юности поэта Валентин Сафонов; именно ему прислали два заветных томика, сменившие отдельные есенинские стихи, прежде переписанные от руки по тетрадкам). Имя Есенина подсказывают и стихи Рубцова:
К табуну с уздечкою выбегу из мрака я,
Самого горячего выберу коня,
И по травам скошенным, удилами звякая,
Конь в село соседнее понесет меня.
«Деревенские ночи»
Дальше можно подхватывать из Есенина:
Я – беспечный парень. Ничего не надо.
Только б слушать песни – сердцем подпевать,
Только бы струилась легкая прохлада,
Только б не сгибалась молодая стать.
«Я иду долиной...»
Хотя под рубцовским стихотворением дата – 1966 год, известно, что оно начало складываться гораздо раньше. Есенинское влияние, составившее основу ранних стихов, постепенно если не уходит вовсе, то осложняется по мере расширения поэтического опыта. Талант поэта сказывается не только в собственных стихах, но и в суждениях о том, как пишут другие. Хотя жизнь Рубцова сложилась так, что плоды его школьной образованности оказались даже более скудными, чем обычно, он был жадным читателем поэзии, хотел узнавать и запоминал мгновенно, целыми днями был готов говорить о стихах и только о стихах, бесконечно цитируя по памяти. Память для поэта – одно из условий дарования. У Рубцова – об этом вспоминают знавшие его, об этом же говорил он сам – память была превосходной. Подтверждением тому и его поэзия.
Она же свидетельствует о том, что Рубцов стремится не только запомнить, проверить чужие стихи на слух, но и понять. Пишутся стихи на литературные темы. В 1962 – «Сергей Есенин», в 1964 – цикл «Приезд Тютчева», «Дуэль» – о Лермонтове, «Пушкин»... К числу удач того времени эти стихи не относятся. Совсем нет, подчас поражают и наивностью, и неловкостью выражения:
Напрасно дуло пистолета
Враждебно целилось в него:
Лицо великого поэта
Не выражало ничего!
Это – беспомощно, и беспомощность тем более удивительна, что рядом – «Тихая моя родина», «Сапоги мои – скрип да скрип...», «Осенняя песня».
Талант побеждает трудности, но это не значит, что трудностей и вовсе не было. Только в самые последние годы Рубцов как будто переходит на иной уровень отношения с поэтической традицией: чуткий от природы поэтический слух обогащается разнообразным знанием, свободой суждения и точностью даже мгновенных оценок:
Вот Есенин – на ветру!
Блок стоит чуть-чуть в тумане.
Словно лишний на пиру
Скромно Хлебников шаманит.
«Я люблю судьбу свою...»
Хорошо – о Хлебникове. Как будто бы скромно шаманить – вопиющая неточность, взаимоисключающее сочетание слов. Так и есть, пока это сочетание не применено к Хлебникову, не превращается в индивидуальную метафору его творчества. Тогда оксюморон оправдан.
Сейчас опубликованы ранние варианты некоторых лучших стихотворений Рубцова. Они позволяют судить, как проходила работа над стихом – от чего поэт уходил, к чему стремился. Одно из самых известных и самых рубцовских стихотворений «Горница» первоначально было написано в июле 1963 года и называлось «В звездную ночь». Первая строфа та же, что и в окончательном тексте (различие лишь в некоторых знаках препинания):
В горнице моей светло, -
Это от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды.
Затем между первой и второй строфами окончательного текста стоит четверостишие, позже удаленное:
– Матушка, – который час?
Что же ты уходишь прочь?
Помнишь ли, в который раз
Светит нам земная ночь?
Красные цветы мои
В садике завяли все,
Лодка на речной мели
Скоро догниет совсем.
А две заключительные строфы раннего и позднего вариантов совершенно разные. В раннем – прорыв в мистическое видение, обращенное в прошлое:
Сколько же в моей дали
Радостей пропало, бед?
Словно бы при мне прошли
Тысячи безвестных лет.
Словно бы я слышу звон
Вымерших пасхальных сел...
Сон, сон, сон
Тихо затуманит все.
В первом варианте была прямо названа ситуация – сон. И все происходящее предстало со всей безусловностью – ночным видением. Во втором ситуация та же, но она гораздо более сдержанно, неявно обозначена – сон или явь? Нечуткий читатель легко принимает стихотворение за бытовую зарисовку, не ощущая его зыбкого мерцающего колорита. И тогда удивленно или ернически вопрошает (как это уже кто-то и сделал): что это молодой человек не поможет матери ведро воды принести? Да потому что нет дороги в собственный сон, нет и матери, а есть тоска и боль раннего сиротства. Есть лишь сон, но в окончательном тексте стихотворения не перерастающий в патетическое видение, а все более обретающий безусловность яви – в настоящем и обещающий исполнение мечты в близком будущем:
Дремлет на стене моей
Ивы кружевная тень,
Завтра у меня под ней
Будет хлопотливый день!
Буду поливать цветы,
Думать о своей судьбе,
Буду до ночной звезды
Лодку мастерить себе.
Несколько отвлеченная риторика первого варианта сменилась предметной воплощенностью мечты («лодку мастерить себе») и простодушием интонации. В этом сочетании – предметности и простодушия, – как мне кажется, созданы лучшие рубцовские стихи. Это его узнаваемая нота, прозвучавшая с классической ясностью; результат и предел им достигнутого мастерства.
Порой с удивлением ловишь себя на том, как далеко и неожиданно уводят ассоциации при чтении рубцовских стихов. Имел ли он это в виду, знал ли? Дело ведь не только в знании и в памяти. Классическая соразмерность не списывается с образца, а воссоздается по слуху, откликается на чувство формы у современного поэта. Можно сказать, что Рубцов временами, как многие писавшие о деревне и питающиеся воспоминаниями, звучал идиллически. А можно заметить, что идиллия у него подточена не только иронией, но и трагическим чувством своего неизбежно близкого конца. Этот поворот идиллического сюжета особенно наглядно воплощен в живописи Возрождения: гробница посреди цветущего южного полдня и часто надпись по латыни «И в Аркадии», то есть и в счастливой Аркадии поселилась смерть.
Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи...
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои.
– Где же погост? Вы не видели?
Сам я найти не могу. –
Тихо ответили жители:
– Это на том берегу.
Воспоминание о тихой родине детства открывается мотивом сиротства, а завершается неизбежностью ухода, расставания, но и признанием в неразрывности связи:
Школа моя деревянная!
Время придет уезжать –
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать.
С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.
В данном случае предметность рубцовского стиля являет себя в умении запечатлеть каждый предмет мифологически единственным, так что это уже и не предмет, а – безусловная примета пейзажа, в котором все явственно, подробно, веско – навсегда. Изба и туча – явления одного порядка, связанные овеществленным («готовым упасть») громом. Прежде чем звучит финальная декларация своей смертной – до конца, навсегда – связи с этим миром, сам этот мир восстанавливается в своем единстве, развернутый по вертикали – от земли до неба. Единственная движущаяся точка этого пейзажа – сам наблюдатель. Он здесь минутен, преходящ, а чтобы вписаться в пейзаж, должен перевоплотиться, принять обличье какого-то иного существа (мифологический оборотень), хотя бы вороны:
Новый забор перед школою,
Тот же зеленый простор.
Словно ворона веселая,
Сяду опять на забор!
Точно так же как классическая модель идиллии проступает в тексте «Тихая моя родина», жанр стихотворения на смерть поэта узнаваем в «Последнем пароходе» – на смерть Александра Яшина. Повторы строк, переходящих из строфы в строфу, звучит поминальной перекличкой, вспоминанием и причитанием: «В леса глухие, в самый древний град / Плыл пароход, разбрызгивая воду...», «А он, больной, скрывая свой недуг, – / Он, написавший столько мудрых книжек...»
В согласии с классической традицией жанра о смерти поэта скорбят поэзия и природа, в данном случае – родные места Яшина:
...Мы сразу стали тише и взрослей.
Одно поют своим согласным хором
И темный лес, и стаи журавлей
Над тем Бобришным дремлющим угором...
Журавли в данном случае – вечная примета пейзажа, поминального для поэта: Ивиковы журавли, некогда изобличившие убийц древнегреческого лирика и оставшиеся в поэтической памяти.
Иногда трудно решить, то ли на слух подхвачены Рубцовым ноты, идущие от поэтов, чьи имена как будто бы не упоминаются, не входят в круг его чтения и увлечения, то ли он обрел высшее интуитивное чувство музыки русского стиха, позволяющее ему угадывать неслышанное, по какой-то внутренней закономерности подхватывая и переосмысляя мелодию. Так случайно ли в параллель к строчкам из стихотворения памяти Александра Яшина слышатся ахматовские строки – памяти Бориса Пильняка (хотя до последнего времени стихотворение печаталось без указания адресата): «Но хвойный лес и камыши в пруду / Ответствуют каким-то странным эхом»?
На языке стиховедческой науки это называется семантической окрашенностью приема или мотива: например, определенному размеру или строфической форме в культуре русского стиха сопутствует свой ряд тематических, эмоциональных ассоциаций. Этот ряд способен меняться, расширяясь, но он все-таки существует и даже помимо сознания диктует поэтический выбор:
Меж болотных стволов красовался восток огнеликий...
Вот наступит октябрь – и покажутся вдруг журавли!
И разбудят меня, позовут журавлиные крики
Над моим чердаком, над болотом, забытым вдали...
«Журавли»
Об этом, одном из самых известных рубцовских стихотворений, В. Кожинов говорит в самом начале книги о поэте: «...трудно представить себе, что еще лет десять назад эти строки не существовали, что на их месте в русской поэзии была пустота»* [Кожинов В. Николай Рубцов. Заметки о жизни и творчестве поэта. М., 1976. С. 3].
По отношению к культуре понятие «пустота» не очень удачно: как будто существует некое заданное пространство, подлежащее заполнению, или какая-то система – как периодическая система Менделеева? – которую можно дополнять еще не открытыми элементами. Не думаю, что для неизменного поборника органичности в искусстве – роль, утвержденная за собой В. Кожиновым, – такое представление приемлемо. Скорее оно плод оговорки, проистекшей от желания сразу же утвердить первостепенное значение Рубцова, без которого культура была неполной.
Очень часто – по естественной ограниченности памяти и знания – мы спешим объявить о рождении новых значений (и заполнении пустот) там, где происходит лишь естественное продолжение. Продолжение в развитии.
Вероятно, с первого прочтения «Журавлей» у меня было ощущение, что за этими стихами, действительно сильными, мне что-то слышится... Не это ли:
Незабвенный сентябрь осыпается в Спасском.
Не сегодня ли с дачи съезжать нам пора?
За плетнем перекликнулось эхо с подпаском
И в лесу различило удар топора.
Этой ночью за парком знобило трясину.
Только солнце взошло и опять – наутек...
«Спасское» Пастернака написано на полвека раньше, чем рубцовские «Журавли».
Конечно, сказывается метрическая близость. Однако близок не только размер, но интонация, настроение – осенний пейзаж с пугающим, знобящим болотом и тоскливым чувством одиночества в пустеющем мире природы. Перекликающееся начало только отчетливее подчеркивает несходное продолжение. Когда-то Валерий Брюсов, сравнивая стихи двух начинающих поэтов, писал: «Природа, входящая в поэзию Пастернака чаще всего как "сад" или "балкон", вливается в стихи Асеева как "степи" и "леса"». Оценка, оправданная и этим ранним стихотворением Пастернака, где Природа, прирученная человеком, но главное – служащая лишь развернутой метафорой его ощущения, хотя и в очень точных наблюдательных подробностях.
От иного образа и понимания природы идет Рубцов. Для него природа распахнута, необозрима, одухотворена. Во многом это тютчевская природа...
В отношении с этой линией русской лирики определился поэтический взгляд Рубцова. Опираясь на нее, Рубцов входит в современную поэзию.
* * *
Два имени – одно из прошлого, другое из настоящего, – поставленные рядом, нередко вызывают ревнивое сомнение: по чину ли такое сближение нашему современнику? Начинает казаться, что поставить рядом, установить наследственность и преемственность – значит уравнять в поэтических правах. Признаюсь, что такого рода возражения мне не раз приходилось слышать после статей о тютчевской традиции в современной поэзии.
Традиция не имеет ничего общего с наследованием доходного места или высокой должности. Влияние – это ее частное и первоначальное, что ли, проявление, когда один говорит, а второй почтительно внимает и усваивает. Когда второй заговорит, тогда традиция обнаружит себя как процесс двусторонний, как диалог, в котором по-новому выглядит и тот, кто оказывается влияние, и тот, кто его воспринимает. От его восприимчивости зависит многое, и прежде всего равноправие.
Сходство по хронологической вертикали показывает глубину традиции – художественный язык в движении, в развертывании. Ощущение этой глубины, этой дистанции, имеющей не только временное, но и ценностное выражение, обязательно для воспринимающего поэта. Продуктивность традиции как диалога не только в чувстве сходства или в желании быть похожим (прямой путь к эпигонству), но в ощущении своего отличия и трудности, почти невозможности сближения, каким бы желанным и важным оно ни казалось. В чувстве этой разделяющей дистанции – динамизм традиции, импульс движения и самобытности.
Каждый, вначале как читатель, может почувствовать притяжение того или иного имени. Важно, в какой мере выбор сделан сознательно и воспринимается ли воздействие от первоисточника непосредственно, или понравившееся доходит из вторых, из третьих рук. Опасность повториться может быть как следствием слишком сильного увлечения, так и следствием незнания, когда велосипед открывают заново.
В русской поэтической традиции, видимо, есть только один центр, от которого ведут все пути, – Пушкин. Удивительна его способность все объять, и не менее удивительно его умение отобрать среди бесконечных, уже видимых, намеченных им возможностей только то, что считал своим. Остальное – в черновиках, о которых рассказывает замечательная по тонкости, по совершенству поэтического слуха, различающего оттенки традиции, статья И. Л. Фейнберга* [Фейнберг И. Л. По черновикам Пушкина // Фейнберг И. Л. Читая тетради Пушкина. М., 1985. С. 462–477]. Пушкин намного опережал свою эпоху, оставляя среди отвергнутых им вариантов и стих, отмеченный лермонтовской интонацией, и образность Блока, и архаизм в духе то ли Хлебникова, то ли Заболоцкого: «И в темноте, как призрак безобразный / Стоит вельблюд, вкушая отдых праздный»** [Там же. С. 477].
Думаю, что если внимательно проанализировать все случаи бунта против Пушкина на протяжении полутора веков, то можно показать – бунт этот был не против Пушкина, а против той или иной его интерпретации, возобладавшей и подавляющей. Бунтарь не нашел своего у Пушкина только потому, что не искал самостоятельно, но удовлетворился тем, что получил от других.
Это относится только к Пушкину. Только он – «наше всё»!
Приверженность любому другому из великих – дело выбора. Каждый из них знает и периоды славы, и периоды забвения, повторяющиеся, чередующиеся. В 1960–70-е годы, на выходе из эпохи «поэтического бума», с особым значением зазвучало имя Тютчева. Даже внешне, по судьбе поэта, долго почитавшегося второстепенным, поздно завоевавшего известность, но до конца сохранившего дар, Тютчев оказался близок тем, кто научился ценить глубину и зрелость. «Что остается? Поздний Тютчев?» – воскликнул тогда Давид Самойлов.
«Поздний» – это не хронологическая помета. Если отбросить несколько ученических опытов, то весь Тютчев – поздний, глубокий, несуетный... Напомню, что им до тридцати был написан «Silentium».
Для русской поэзии узнаваемый тютчевский образ – человек перед лицом мироздания. Один на один с мирозданием. Диалог Души и Вселенной, которому все более грозит взаимное непонимание.
Каждый выбирает традицию согласно своим вкусам, но входит в нее, насколько позволяют силы, хватает таланта. Один выдернет несколько цитат, другой подслушает интонацию, запомнит прием... Ни в одном из этих случаев мы еще не скажем «традиция» – слово прозвучало бы громким преувеличением. Право на принадлежность ей дается не всяким сходством, для обозначения которого есть и другие слова: эпигонство, подражание, стилизация... Традиция продолжается не в совпадении решений, философских или художественных, а в совпадении вопросов, осознанных в своей насущности, возможно подсказанных опытом прошлого, который притягивает к себе, но и отталкивает, побуждая к опровержению.
Войти, оставаясь собой! Чтобы судить о том, состоялось ли вхождение, надо знать – кто пришел.
Известно, что Рубцов в последние годы буквально не расставался с томиком Тютчева. В его стихах обнаруживают прямые – «и даже излишне прямые»* [Кожинов В. Николай Рубцов. С. 46] следы увлечения Тютчевым. Откровенность цитирования или заимствования в данном случае – от уверенности в своих силах. Если есть желание повторить, то Рубцов и повторяет, зная, что тем самым не сковывает себя, не обрекает на подражание. Проверив владение чужим приемом, чужим звуком, он сохраняет ощущение того, где свое, а где чужое. Тем более, что обретение чужого (чтобы оно стало своим) давалось не просто.
У раннего Рубцова есть стихотворение «Приезд Тютчева» – слово о поэте, к которому, наверное, уже тогда он относился с любовью и одновременно с наивным непониманием. Это стихотворение – отклик из совершенно иного измерения, что особенно бросается в глаза, так как речь идет о Тютчеве-человеке, о котором у Рубцова «дамы всей столицы... шептались по ночам» (совсем как на посиделках) и в котором все «поражало высший свет». Во всем еще школьная наивность, сквозь которую нужно пройти, чтобы возникло созвучное ощущение.
Иногда в стихах Рубцова мы видим не только результат, но как бы сам процесс вживания в эту традицию:
Уже деревня вся в тени.
В тени сады ее и крыши.
Но ты взгляни чуть-чуть повыше –
Как ярко там горят огни!
Одна у нас в деревне мглистой
Соседка древняя жива,
И на лице ее землистом
Растет какая-то трава.
И все ж прекрасен образ мира,
Когда в ночи равнинных мест
Вдруг вспыхнут все огни эфира,
И льется в душу свет с небес,
Когда деревня вся в тени,
И бабка спит, и над прудами
Шевелит ветер лопухами,
И мы с тобой совсем одни.
Есть в этом стихотворении стилистическая неровность, как будто между первым и третьим четверостишием с их поэтической приподнятостью, риторикой вклинились строки, по недоразумению сюда вписанные: «И на лице ее землистом / Растет какая-то трава...».
Но нет, недоразумения не случилось, и в последних четырех строках Рубцов делает лирический ход, который должен примирить обе линии. В этом стилистическом выравнивании ощутимо усилие соединить жизненные впечатления с поэтическими. Поэту внятна опасность приукрасить, заслоняя традиционной поэтичностью то, что знает по опыту, – отсюда и неожиданно выпяченный натурализм в портретном описании. Поэт не отстраняется от того, что он видит, чем живет, но грубость земного не препятствует «эфирным» лучам, которые, кажется, проникли к Рубцову непосредственно из тютчевского стихотворения:
Чуть-чуть белеет темя гор,
Еще в тумане лес и долы,
Спят города и дремлют селы,
Но к небу подымите взор...
………………………..
Еще минута, и во всей
Неизмеримости эфирной
Раздастся благовест всемирный
Победных солнечных лучей.
«Молчит сомнительно восток...»
Тютчев – это не влияние, формально понятное. Современного поэта он не подчиняет, не уводит от самого себя, а дает возможность самопознания и самовыражения. Сходство двух миров пробивается сквозь огромное различие жизненной ситуации и опыта. Русская деревня, которая была для Рубцова «глубиной России», никак не вмещается в тютчевское: «Эти бедные селенья, эта скудная природа». Рубцовское чувство, как тогда говорили, «малой родины» никак не созвучно тютчевским словам о родном Овстуге: «Места немилые, хоть и родные». Для Рубцова: «тихая моя родина...» – это и покой родного дома, и в то же время это место, откуда открывается вид на все мироздание, откуда по-особенному виден небесный свет. Именно здесь мог прийти на помощь Рубцову опыт поэта более близкого – Николая Заболоцкого, ранее него вступившего в полемику с Тютчевым и уже перенесшего тайны бытия в «места глухой природы».
Опыт жизни в этих местах, крестьянский опыт, по-своему представляет дисгармонию человеческого присутствия в природе. Человек в ней не вовсе инородное тело, но он не должен ожидать, что мир откликнется ему дружелюбным узнаванием, скорее настороженностью и взаимно опасливым чувством. «Вечерним происшествием» называет Рубцов стихотворение о неожиданной встрече – «Мне лошадь встретилась в кустах...»:
Мы были две живых души,
Но неспособных к разговору.
Мы были разных два лица,
Хотя имели по два глаза.
Мы жутко так, не до конца,
Переглянулись по два раза.
Даже неловкость выражения в последней строке (надо бы сказать: переглянулись два раза) как будто оправдана тем, что подтверждает общее впечатление – неконтактности, непонимания: переглянулись, то есть посмотрели друг на друга, но каждый остался сам по себе, отчужденно. Превосходный по своей живописной наглядности образец рубцовского – мастерского – примитива. Объект изображения, вопреки законам перспективы распластанный на плоскости, виден сразу и целиком: «Хотя имели по два глаза...» С таким же подробным буквализмом, в одновременности характеристик и жестов, разворачивается и действие: переглянулись жутко – не до конца – по два раза. Это зрение человека, видящего мир природы еще не со стороны, не в перспективе, а изнутри этого мира, ощущая одновременно свою связь с ним и свою чужеродность в нем.
Если этот мир и гармоничен, то он не идилличен. С Тютчевым Рубцова роднит желание заглянуть в звездное небо, пережив чувство не только ликующей причастности мирозданию, но и «темному корню бытия». От Тютчева в русском стихе – мир ночного отчуждения, ужаса, и после него едва ли не всякий, кто ощущает притяжение ночи, вольно или невольно, входит в круг тютчевских ассоциаций и стилистики:
Когда стою во мгле,
душе покоя нет, –
И омуты страшней,
И резче дух болотный,
Миры глядят с небес,
Свой излучая свет,
Свой открывая лик,
Прекрасный, но холодный.
Рубцовское стихотворение так и называется – «Ночное ощущение». Оно не раз еще мелькнет в стихах Рубцова, рождая тревогу, беспокойство. Высокая лексика: небеса, лик... Но почти никогда Рубцов не начинает с этой приподнятой ноты, она возникает и крепнет постепенно. Вот и здесь сначала разговорная, обыденная фраза: «Когда стою во мгле...» А в сочетании с ней и само лирическое признание: «Душе покоя нет...» – звучит не только незащищенно, но как-то наивно. Обыденны и приметы пейзажа – северная деревенька, болотный край. А затем уже вступает в силу возвышающе торжественная, по-тютчевски приподымающая одическая интонация.
У рубцовской поэзии необычный, не всеми принимаемый колорит, сочетающий наивность и торжественность. В этом сочетании звучит искренность поэта, которого влечет высокая тема, но он не хочет войти в нее, отвергая свой опыт, забывая, что его окружает, где он вырос. В том же «Ночном ощущении» сам Рубцов сказал кратко и точно: «Я чуток как поэт, / Бессилен как философ». Не только, впрочем, объяснил, но и подтвердил стихом, за которым – человек, чутко прислушивающийся к миру, недоумевающий, менее всего выдающий себя за философа и даже как бы махнувший рукой на эти вечные вопросы:
Вот коростеля крик
Послышался опять…
Зачем стою во мгле?
Зачем не сплю в постели?
Скорее спать!
Ночами надо спать!
Настойчиво кричат
Об этом коростели...
В лучших стихах Рубцова эта наивная искренность сказывается не отчаянием философа, а мастерством поэта. Он работает почти на грани примитива, который не есть условный прием, а естественный способ зрения: «Добрый Филя», «В горнице», «Утро», «Окошко. Стол. Половики...», «Я люблю судьбу свою...». При этом Рубцов не был бы современным поэтом, если бы не пережил того, что Тютчева еще не могло тревожить, – опасения за природу. Человек, научившийся брать у природы, не полагаясь на ее милости, вдруг растерянно признается, что перестал слышать ее голос.
Боюсь, что над нами не будет таинственной силы,
Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом...
«Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны», 1963
Рубцовское сочетание высоты с глубиной, взаимно сопряженных, соразмерных. И ему же свойственная резкость поэтического хода от «таинственной силы» к делам повседневным, которые утрачивают смысл лишь только в том случае, если они отлучены от какого-то несиюминутного высшего порядка. Этот тютчевский страх и наряду с ним тютчевское тяготение к загадке бытия – в котором властвует гармония или хаос? – пережили тогда многие. Николай Рубцов был одним из них, по его собственному слову, – поэтически чутким и философски наивным.
Рубцов был поэтом... Это слово мы любим обставлять дозирующими масштаб эпитетами: великий, большой, крупный... В эпитетах – наше восприятие, но суть – в самом определяемом слове. Поэт – явление редкое и потому уже замечательное.
|