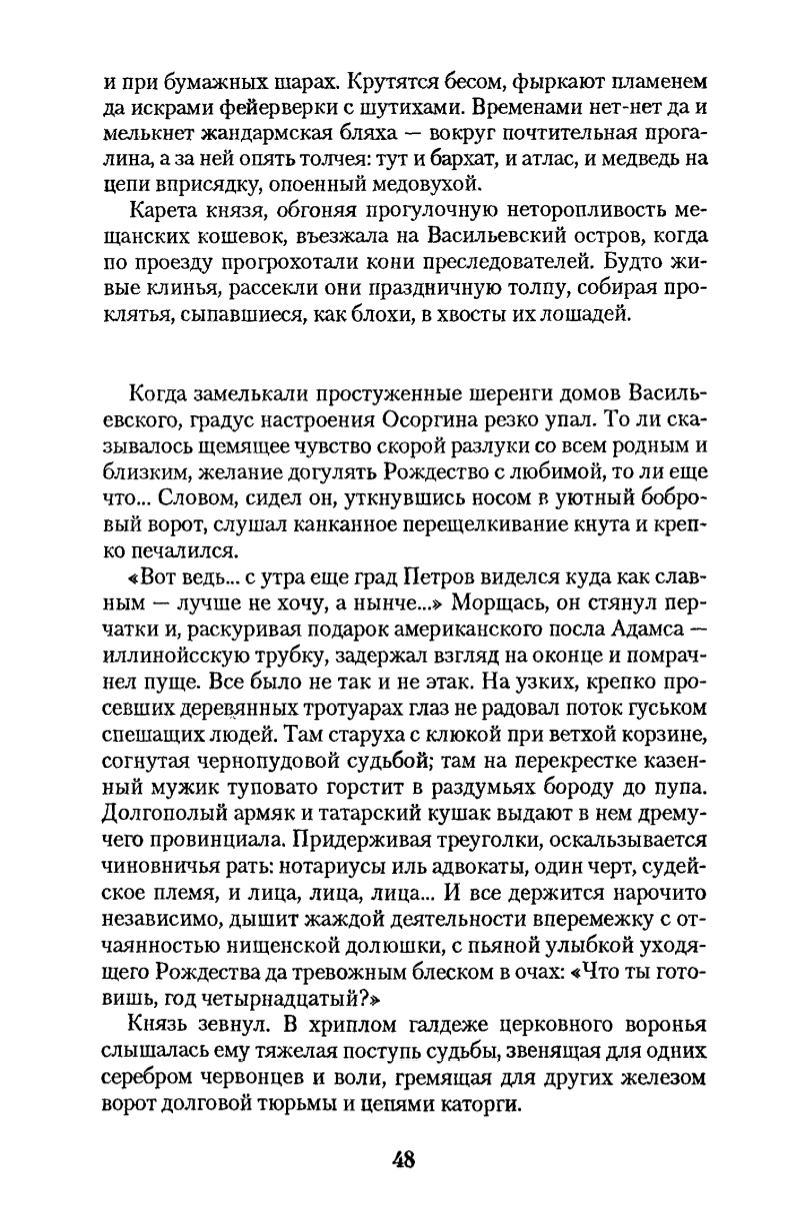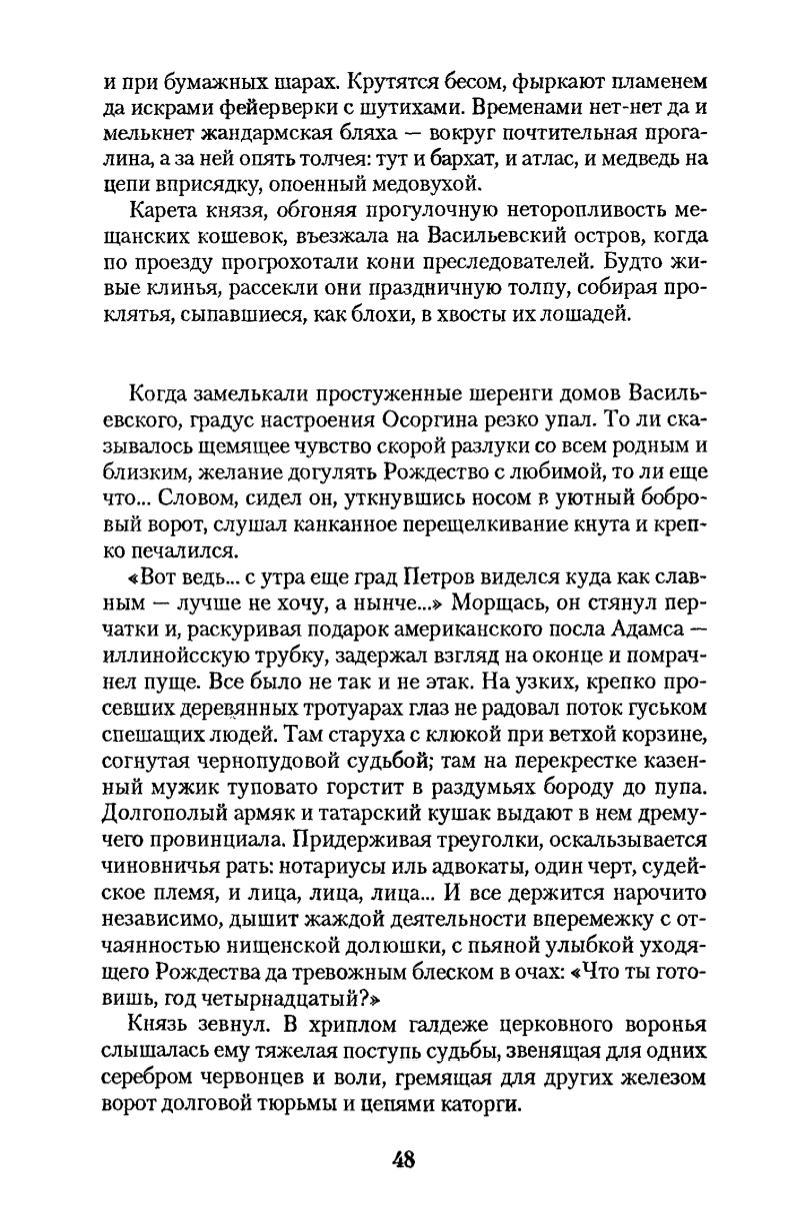
и при бумажных шарах. Крутятся бесом, фыркают пламенем
да искрами фейерверки с шутихами. Временами нет-нет да и
мелькнет жандармская бляха —вокруг почтительная прога
лина, а за ней опять толчея: тут и бархат, и атлас, и медведь на
цепи вприсядку, опоенный медовухой.
Карета князя, обгоняя прогулочную неторопливость ме
щанских кошевок, въезжала на Васильевский остров, когда
по проезду прогрохотали кони преследователей. Будто жи
вые клинья, рассекли они праздничную толпу, собирая про
клятья, сыпавшиеся, как блохи, в хвосты их лошадей.
Когда замелькали простуженные шеренги домов Василь
евского, градус настроения Осоргина резко упал. То ли ска
зывалось щемящее чувство скорой разлуки со всем родным и
близким, желание догулять Рождество с любимой, то ли еще
что... Словом, сидел он, уткнувшись носом в уютный бобро
вый ворот, слушал канканное перещелкивание кнута и креп
ко печалился.
«Вот ведь... с утра еще град Петров виделся куда как слав
ным —лучше не хочу, а нынче...» Морщась, он стянул пер
чатки и, раскуривая подарок американского посла Адамса —
иллинойсскую трубку, задержал взгляд на оконце и помрач
нел пуще. Все было не так и не этак. На узких, крепко про
севших деревянных тротуарах глаз не радовал поток гуськом
спешащих людей. Там старуха с клюкой при ветхой корзине,
согнутая чернопудовой судьбой; там на перекрестке казен
ный мужик туповато горстит в раздумьях бороду до пупа.
Долгополый армяк и татарский кушак выдают в нем дрему
чего провинциала. Придерживая треуголки, оскальзывается
чиновничья рать: нотариусы иль адвокаты, один черт, судей
ское племя, и лица, лица, лица... И все держится нарочито
независимо, дышит жаждой деятельности вперемежку с от
чаянностью нищенской долюшки, с пьяной улыбкой уходя
щего Рождества да тревожным блеском в очах: «Что ты гото
вишь, год четырнадцатый?»
Князь зевнул. В хриплом галдеже церковного воронья
слышалась ему тяжелая поступь судьбы, звенящая для одних
серебром червонцев и воли, гремящая для других железом
ворот долговой тюрьмы и цепями каторги.
48