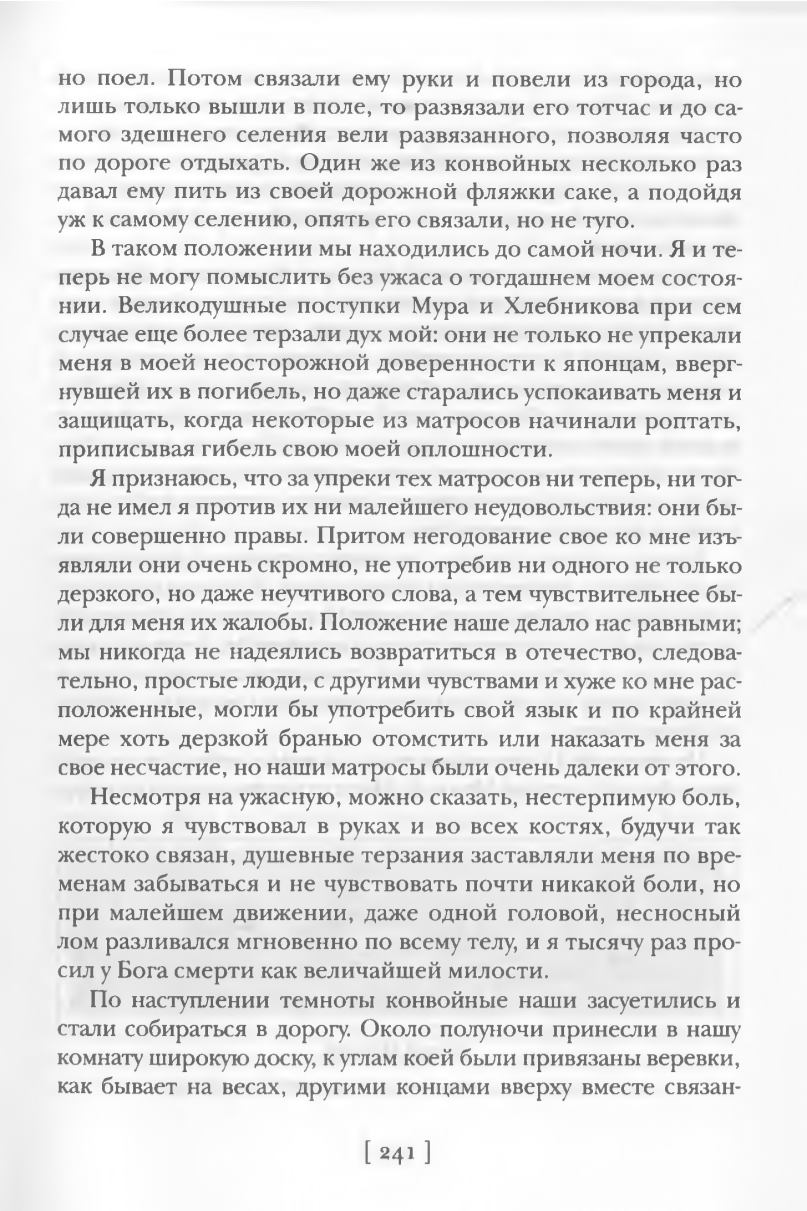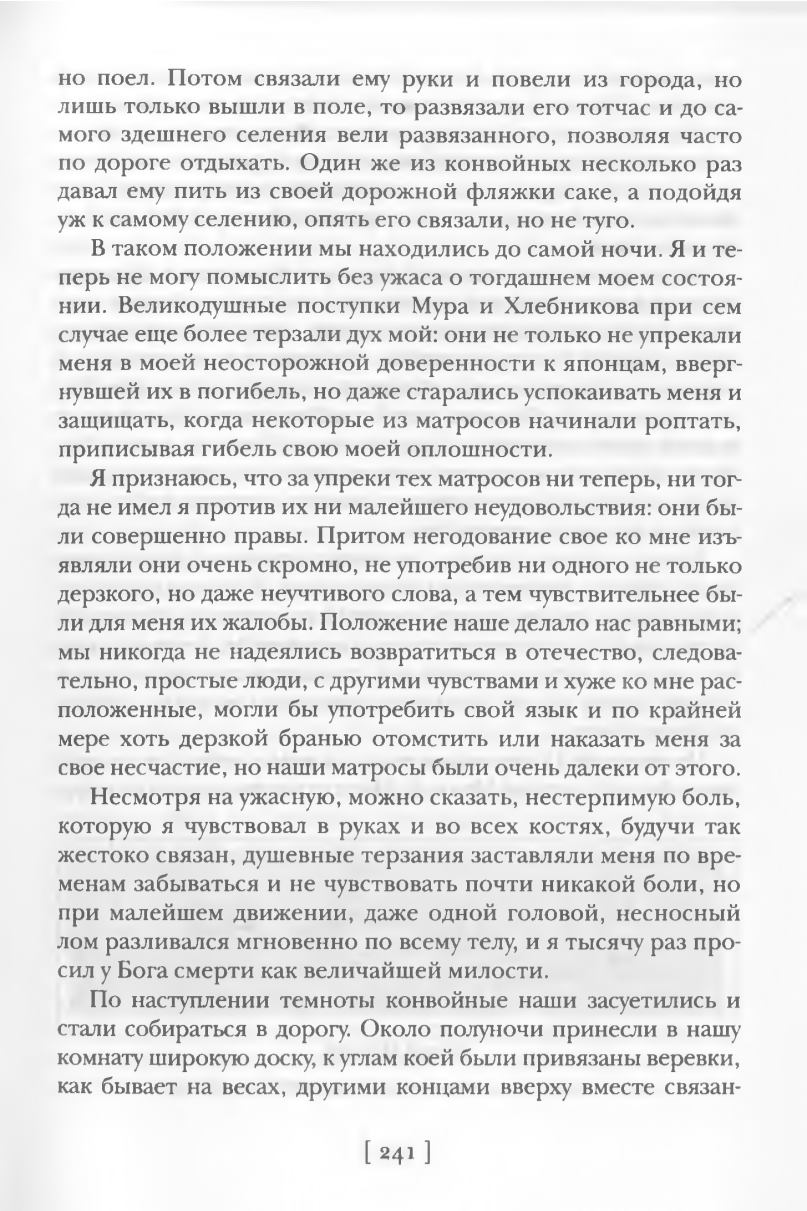
но поел. Потом связали ему руки и повели из города, но
лишь только вышли в поле, то развязали его тотчас и до са
мого здешнего селения вели развязанного, позволяя часто
по дороге отдыхать. Один же из конвойных несколько раз
давал ему пить из своей дорожной фляжки саке, а подойдя
уж к самому селению, опять его связали, но не туго.
В таком положении мы находились до самой ночи. Я и те
перь не могу помыслить без ужаса о тогдашнем моем состоя
нии. Великодушные поступки Мура и Хлебникова при сем
случае еще более терзали дух мой: они не только не упрекали
меня в моей неосторожной доверенности к японцам, вверг
нувшей их в погибель, но даже старались успокаивать меня и
защищать, когда некоторые из матросов начинали роптать,
приписывая гибель свою моей оплошности.
Я признаюсь, что за упреки тех матросов ни теперь, ни тог
да не имел я против их ни малейшего неудовольствия: они бы
ли совершенно правы. Притом негодование свое ко мне изъ
являли они очень скромно, не употребив ни одного не только
дерзкого, но даже неучтивого слова, а тем чувствительнее бы
ли для меня их жалобы. Положение наше делало нас равными;
мы никогда не надеялись возвратиться в отечество, следова
тельно, простые люди, с другими чувствами и хуже ко мне рас
положенные, могли бы употребить свой язык и по крайней
мере хоть дерзкой бранью отомстить или наказать меня за
свое несчастие, но наши матросы были очень далеки от этого.
Несмотря на ужасную, можно сказать, нестерпимую боль,
которую я чувствовал в руках и во всех костях, будучи так
жестоко связан, душевные терзания заставляли меня по вре
менам забываться и не чувствовать почти никакой боли, но
при малейшем движении, даже одной головой, несносный
лом разливался мгновенно по всему телу, и я тысячу раз про
сил у Бога смерти как величайшей милости.
По наступлении темноты конвойные наши засуетились и
стали собираться в дорогу. Около полуночи принесли в нашу
комнату широкую доску, к углам коей были привязаны веревки,
как бывает на весах, другими концами вверху вместе связан[
241
]