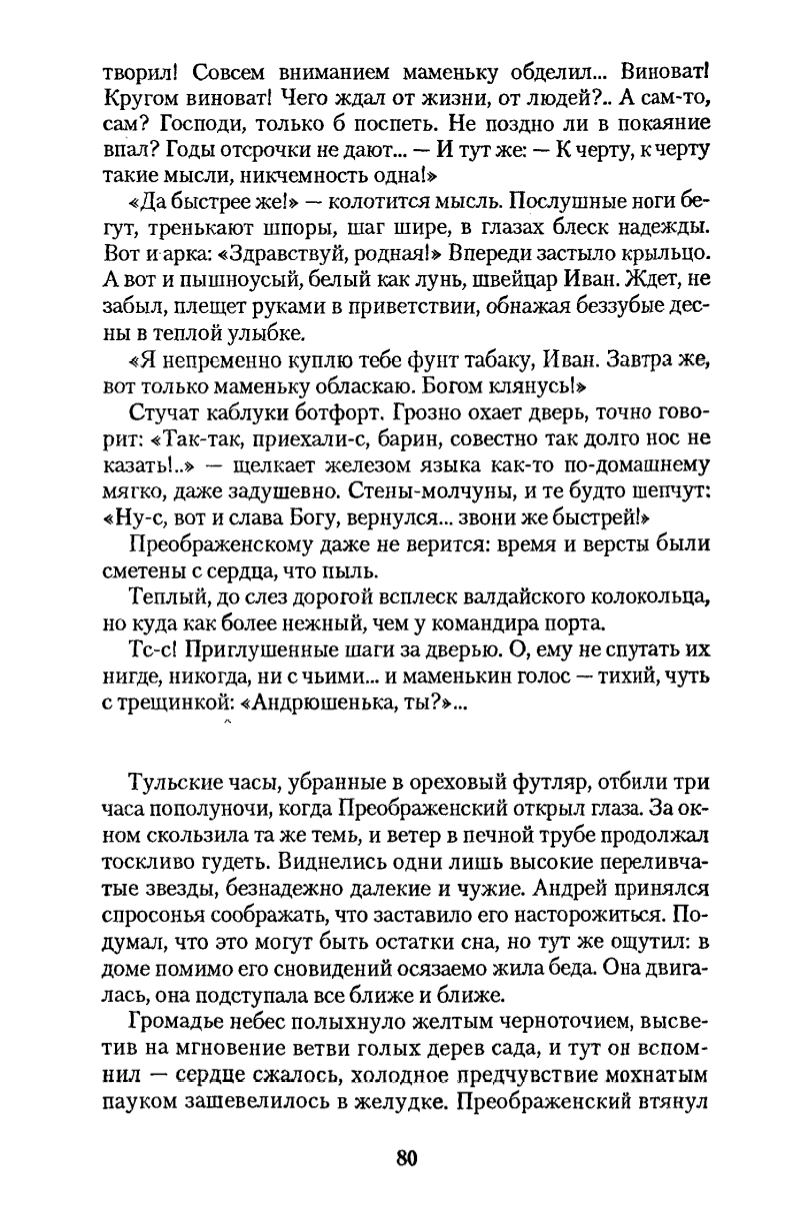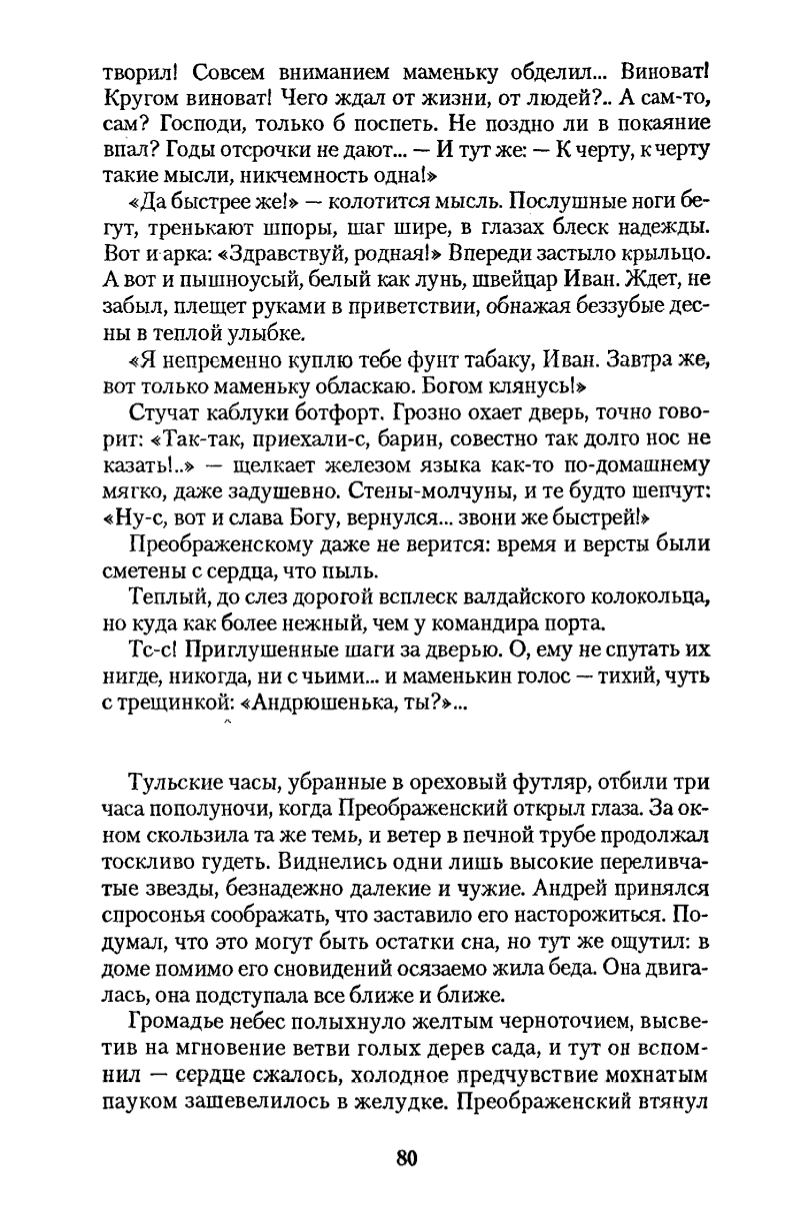
творил! Совсем вниманием маменьку обделил... Виноват!
Кругом виноват! Чего ждал от жизни, от людей?.. А сам-то,
сам? Господи, только б поспеть. Не поздно ли в покаяние
впал? Годы отсрочки не дают... —И тут же: —К черту, к черту
такие мысли, никчемность одна!»
«Да быстрее же!» —колотится мысль. Послушные ноги бе
гут, тренькают шпоры, шаг шире, в глазах блеск надежды.
Вот и арка: «Здравствуй, родная!» Впереди застыло крыльцо.
А вот и пышноусый, белый как лунь, швейцар Иван. Ждет, не
забыл, плещет руками в приветствии, обнажая беззубые дес
ны в теплой улыбке.
«Я непременно куплю тебе фунт табаку, Иван. Завтра же,
вот только маменьку обласкаю. Богом клянусь!»
Стучат каблуки ботфорт. Грозно охает дверь, точно гово
рит: «Так-так, приехали-с, барин, совестно так долго нос не
казать!..» — щелкает железом языка как-то по-домашнему
мягко, даже задушевно. Стены-молчуны, и те будто шепчут:
«Ну-с, вот и слава Богу, вернулся... звони же быстрей!»
Преображенскому даже не верится: время и версты были
сметены с сердца, что пыль.
Теплый, до слез дорогой всплеск валдайского колокольца,
но куда как более нежный, чем у командира порта.
Тс-с! Приглушенные шаги за дверью. О, ему не спутать их
нигде, никогда, ни с чьими... и маменькин голос —тихий, чуть
с трещинкой: «Андрюшенька, ты?»...
Тульские часы, убранные в ореховый футляр, отбили три
часа пополуночи, когда Преображенский открыл глаза. За ок
ном скользила та же темь, и ветер в печной трубе продолжал
тоскливо гудеть. Виднелись одни лишь высокие переливча
тые звезды, безнадежно далекие и чужие. Андрей принялся
спросонья соображать, что заставило его насторожиться. По
думал, что это могут быть остатки сна, но тут же ощутил: в
доме помимо его сновидений осязаемо жила беда. Она двига
лась, она подступала все ближе и ближе.
Громадье небес полыхнуло желтым черноточием, высве
тив на мгновение ветви голых дерев сада, и тут он вспом
нил —сердце сжалось, холодное предчувствие мохнатым
пауком зашевелилось в желудке. Преображенский втянул
80