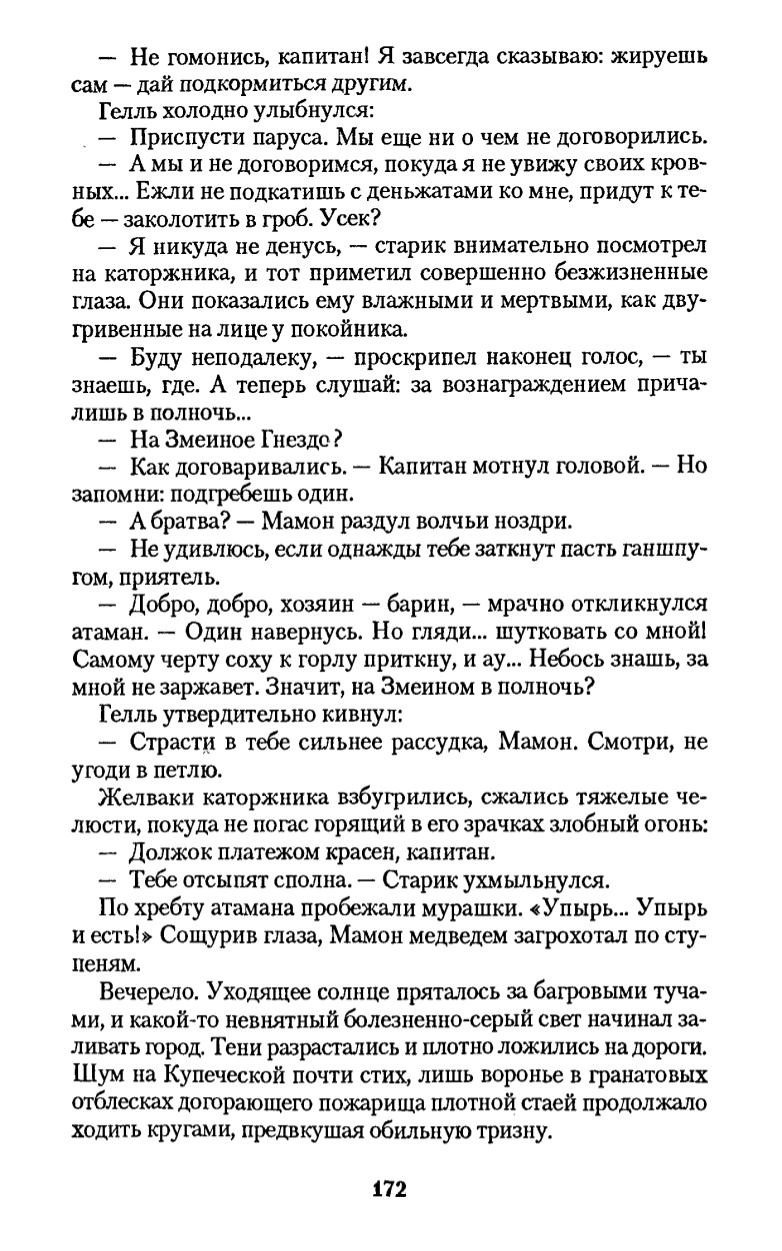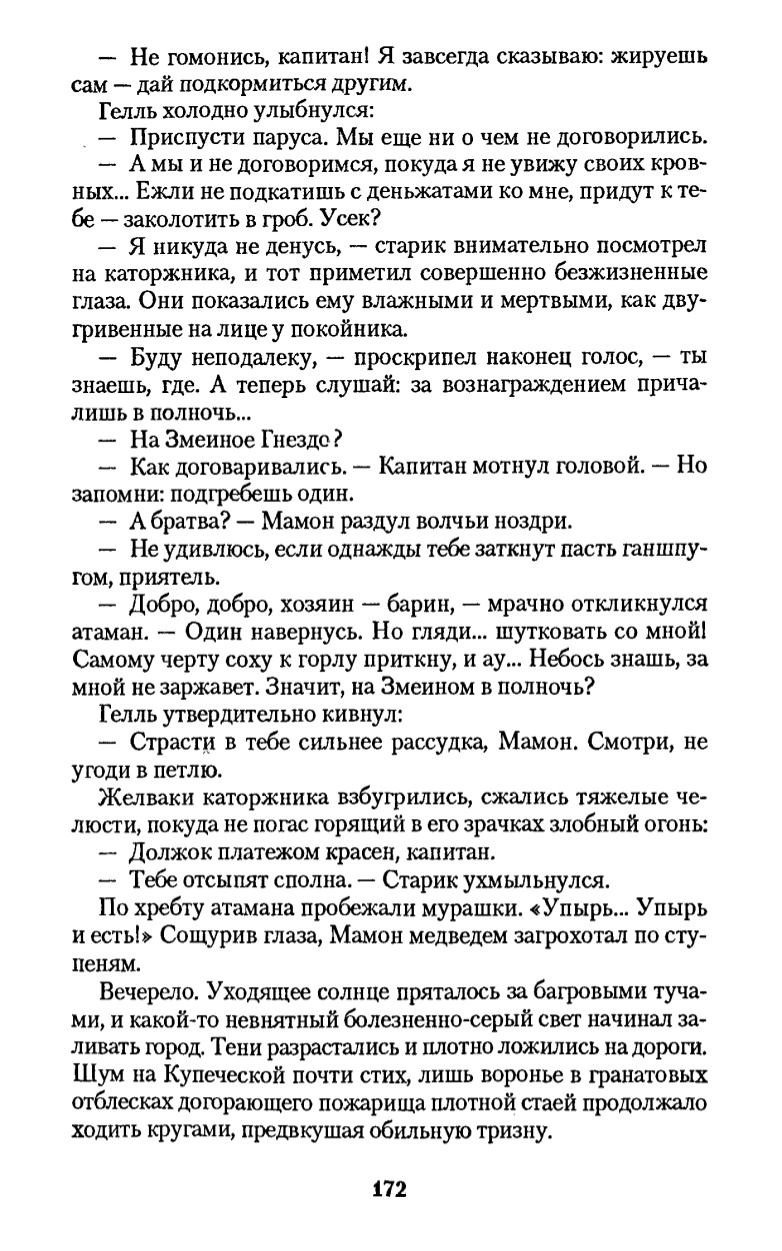
— Не гомонись, капитан! Я завсегда сказываю: жируешь
сам —дай подкормиться другим.
Гелль холодно улыбнулся:
— Приспусти паруса. Мы еще ни о чем не договорились.
— А мы и не договоримся, покуда я не увижу своих кров
ных... Ежли не подкатишь с деньжатами ко мне, придут к те
бе —заколотить в гроб. Усек?
— Я никуда не денусь, —старик внимательно посмотрел
на каторжника, и тот приметил совершенно безжизненные
глаза. Они показались ему влажными и мертвыми, как дву
гривенные на лице у покойника.
— Буду неподалеку, — проскрипел наконец голос, — ты
знаешь, где. А теперь слушай: за вознаграждением прича
лишь в полночь...
— На Змеиное Гнездо ?
— Как договаривались. —Капитан мотнул головой. —Но
запомни: подгребешь один.
— А братва? —Мамон раздул волчьи ноздри.
— Не удивлюсь, если однажды тебе заткнут пасть ганшпу-
гом, приятель.
— Добро, добро, хозяин —барин, —мрачно откликнулся
атаман. —Один навернусь. Но гляди... шутковать со мной1
Самому черту соху к горлу приткну, и ау... Небось знашь, за
мной не заржавет. Значит, на Змеином в полночь?
Гелль утвердительно кивнул:
— Страсти в тебе сильнее рассудка, Мамон. Смотри, не
угоди в петлю.
Желваки каторжника взбугрились, сжались тяжелые че
люсти, покуда не погас горящий в его зрачках злобный огонь:
— Должок платежом красен, капитан.
— Тебе отсыпят сполна. —Старик ухмыльнулся.
По хребту атамана пробежали мурашки. «Упырь... Упырь
и есть!» Сощурив глаза, Мамон медведем загрохотал по сту
пеням.
Вечерело. Уходящее солнце пряталось за багровыми туча
ми, и какой-то невнятный болезненно-серый свет начинал за
ливать город. Тени разрастались и плотно ложились на дороги.
Шум на Купеческой почти стих, лишь воронье в гранатовых
отблесках догорающего пожарища плотной стаей продолжало
ходить кругами, предвкушая обильную тризну.
172